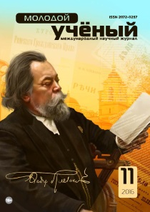Хрестоматия по юридической психологии. Особенная часть.
ПСИХОЛОГИЯ СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Глава 16. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СУДОПРОИЗВОДСТВА
§ 3. Психологические особенности принятия решений судьей
В предыдущей главе были рассмотрены психологические особенности принятия решений юристами в качестве составной части организационно-управленческой подструктуры их профессиональной деятельности.
Свои психологические особенности волеизъявления, процесса выработки, принятия решений имеются и в деятельности юристов, непосредственно участвующих в судопроизводстве. Как известно, окончательное волеизъявление судьи по конкретному делу облекается в особую процессуальную форму, которая предусмотрена в законодательстве в виде конкретных решений по делу, определений, постановлений, наконец, в форме приговора.
Принятие судьей разнообразных решений организационного характера в виде постановлений, определений, например о принятии дела к своему производству, о назначении дня слушания дела, вызове свидетелей и т. п., как правило, не вызывает особых затруднений, поскольку в законе существует определенный порядок (алгоритм) выполнения тех или иных действий (процедур), которые требуется соблюсти в тех или иных ситуациях. Подробно процессуальный порядок принятия таких решений на каждой стадии уголовного, гражданского (арбитражного) процесса содержатся в соответствующих правовых нормах и изучается в уголовно-процессуальном либо в гражданско-процессуальном (арбитражно-процессуальном) праве.
Большая часть таких решений принимается судьями единолично и не вызывает серьезных осложнений в процессе их волеизъявления. Это можно объяснить тем, что процесс поиска правильного решения судьей в подобного рода случаях требует прежде всего активизации вербально-логического мышления, извлекающего из памяти те или иные правовые знания (понятия, категории, нормы и т.п.), с позиций которых оценивается сложившаяся ситуация насколько составные элементы (признаки) этой ситуации соответствуют содержанию конкретной правовой нормы. И в случае их полного соответствия судьей выносится определенное решение, представляющее собой разновидность так называемых рациональных решений, о которых говорилось выше в предыдущей главе.
Весь ход процесса принятия большинства таких единоличных решений на различных стадиях рассмотрения дела, начиная от оценки первичной информации, поступающей к судье, и кончая вынесением определения (постановления), в своей основе имеет тот или иной алгоритм построения логических операций, соблюдение предусмотренных законом процедур, произведя которые, можно прийти к какому-то однозначному выводу и принять решение. Поэтому судебные ошибки организационного, процессуального характера, которые все же встречаются при принятии подобных решений судьями, скорее связаны с их недостаточной квалификацией, нежели со сложностью решаемой задачи.
При принятии групповых решений составом суда, определяющих окончательные результаты рассмотрения то ли гражданского, то ли уголовного дела, роль профессионально значимых психологических факторов, прежде всего интеллекта, мышления судьи, значительно возрастает.
Остановимся несколько подробнее на некоторых из этих психологических факторах Поскольку коллективное принятие решений составом суда представляет особую разновидность совместной профессиональной групповой деятельности, на членов такой, пусть даже весьма специфической группы, на ход их мыслительной деятельности влияют тем не менее те же объективно существующие социально-психологические закономерности межличностного, группового взаимодействия людей.
В этих случаях провозглашенная в законе независимость волеизъявления судей как один из основополагающих принципов осуществления правосудия с психологической точки зрения далеко не всегда может быть реально достижима, поскольку любая — будь-то формальная (в данном случае), либо неформальная — группа функционирует под воздействием объективно существующих социально-психологических закономерностей межличностного взаимодействия, общения членов группы со своим признанным (формальным либо неформальным) лидером. И любой человек, оказавшийся в группе, в психологическом отношении не может быть полностью свободным от влияния на ход его мыслей, на его суждения группового мнения, от внушающего воздействия на него группы, ее лидера (в данном контексте — председательствующего), о чем мы уже говорили выше.
Безусловно, все это оказывает в суде определенное влияние на процесс познания истины, который завершается принятием соответствующего коллективного (группового) решения. Причем, как отмечают некоторые исследователи данной проблемы применительно к судебной деятельности, подобный конформизм при принятии групповых решений (то есть составом суда) обычно бывает выше, когда дело касается сложных вопросов, например, определение виновности подсудимого, и намного ниже при обсуждении более простых вопросов, в частности меры наказания.
Учитывая эти объективно существующие социально-психологические закономерности функционирования группы, стремясь как можно сильнее смягчить их возможное негативное воздействие на членов суда, законодатель предусмотрел целый ряд гарантий, соответствующих правил поведения судей, входящих в состав суда, определенные процедуры в их взаимоотношениях.
Например равенство всех членов суда при решении любых вопросов, возникающих при рассмотрении дела и постановлении приговора, решение всех вопросов по делу простым большинством голосов, объявление председательствующим своего мнения последним, право на особое мнение судьи, не согласившегося с решением большинства (ст .15, 306 УПК РСФСР), обязательный отвод судьи, заинтересованного в деле (ст. 23 УПК РСФСР).
Аналогичные правила предусмотрены и при разрешении гражданско-правовых споров в суде (см.: ст. 16 ГПК РСФСР). Такого же рода гарантии предусмотрены законодателем и при рассмотрении дел с участием коллегии присяжных заседателей.
Безусловно, все эти правила и гарантии в определенной мере направлены на предупреждение судебных ошибок в процессе принятия тех или иных решений судами. Однако, к сожалению, в полной мере они не предотвращают их. И дело здесь вовсе не в отсутствии каких-то дополнительных гарантий, в низкой профессиональной квалификации того или иного судьи, а в тех психических явлениях, которые принято относить к так называемому человеческому фактору. Среди этих психических явлений следует указать на психическую установку, которая играет двойственную, в чем-то даже, если можно так выразиться, коварную роль (негативной роли психической установки мы касались, когда говорили о мыслительной, поисковой деятельности следователя при осмотре места происшествия).
Впервые на нее как на фактор, влияющий на появление судебных ошибок, обратила в 70-х гг. внимание Т.Г. Морщакова. По ее данным, не менее 50% случаев отмены приговоров как не отвечающих требованиям закона (всего было изучено 1803 уголовных дела) в той или иной мере были связаны с обнаруженным ею влиянием «эффекта психической установки» на принятие судьями окончательных решений по уголовным делам.
По мнению Т.Г. Морщаковой, данная закономерность объясняется тем, что «установка предшествует всем, в том числе и познавательным, психическим процессам, влияет на их течение, направляет мышление субъекта в соответствии с определенными условиями, представляя собой готовность к определенной форме реагирования в различных видах деятельности».
Как и в познавательной деятельности следователя, так и в деятельности судей психическая установка, с одной стороны, выполняет положительную функцию, являясь своеобразной «психической гарантией максимальной мобилизации накопленных знаний». Под ее воздействием психические, познавательные процессы человека (восприятие, мышление, внимание и др.) приобретают строго избирательный характер, и вследствие этого каждая новая задача решается субъектом как уже прежде решенные им задачи.
С другой стороны, психическая установка может подталкивать судью к ошибочным выводам и решениям. В подобных случаях психическая установка судьи нередко бывает связана с «психологической значимостью предыдущих решений, состоявшихся по делу», т.е., по существу, с выводами следствия. А это, в свою очередь, по мнению Т.Г. Морщаковой, приводит к тому, что, во-первых, благодаря установке окончательное формирование внутреннего убеждения судьи часто задолго предшествует моменту удаления суда в совещательную комнату. И во-вторых, судья, подсознательно следуя сформировавшейся у него установке, в ходе судебного разбирательства невольно суживает пределы исследования обстоятельств дела, вследствие чего какие-то детали в познавательном плане становятся недоступными для его восприятия. В результате возникает явление, получившее название «субъективной недоступности», о которой говорилось, когда рассматривались психологические особенности проведения обыска следователем.
В ходе исследования механизма воздействия психической установки на мыслительные процессы, на формирование ошибочных решений судьями Т.Г. Морщаковой было выявлено три основные группы судебных работников, допускавших типичные для них ошибки при рассмотрении уголовных дел.
Первую группу составляли лица, которые правильно устанавливали обстоятельства дела, но под влиянием установки о виновности подсудимого, под воздействием обвинительного уклона, несмотря на наличие оснований для вынесения оправдательного приговора, не видели их и подписывали обвинительный приговор. Это как раз те случаи, когда субъект видит новую задачу, но решает ее как старые.
Во вторую группу входили те, кто видел, что достаточные основания для вынесения обвинительного приговора отсутствуют, вследствие чего подсудимый должен быть оправдан, поскольку дополнительных доказательств о его виновности получить невозможно, либо в суде нужно провести дополнительные исследования, чтобы устранить неполноту предварительного следствия. Однако в отношении подсудимого оправдательного вердикта не выносилось, а само дело возвращалось для производства дополнительного расследования.
И наконец, в третьей группе находились те, кто при недостаточной обоснованности обвинения, подтвержденной в судебном заседании, участвовал в вынесении обвинительного приговора. Однако они определяли такую низкую меру наказания, которая явно не соответствовала тяжести содеянного, той мере наказания, назначение которой было бы необходимым, в случае полной доказанности виновности подсудимого. Причем это определялось вовсе не какими-то личностными качествами последнего, а было связано с сомнениями судей относительно недостаточности доказательств виновности подсудимого, т.е. недостаточность доказательств виновности отражалась в чрезмерно мягкой мере наказания.
Какой вывод напрашивается из сказанного? Он достаточно простой: психическая установка сопровождает любую познавательную деятельность человека, в том числе, разумеется, и судебную, оказывая на нее как положительное, так и отрицательное влияние. Психическая установка обычно предшествует решениям, которые принимаются под ее воздействием. Для нейтрализации негативного влияния психической установки необходимо, чтобы она была достаточно гибкой и подвижной. Но это уже во многом зависит от самого человека, от его интеллекта, других качеств личности, которые, если он сам не раскроет в себе, никто за него это не сделает.
Серьезное влияние на появление ошибочных судебных решений помимо психической установки, оказывают также различные психические состояния, которые может испытывать судья, как и любой человек. Среди этих состояний Т.Г. Морщакова в первую очередь обращает внимание на состояние сомнения в момент принятия судьей решения по делу, утомления, психической напряженности (стресса), существенно ослабляющих его познавательную активность, проявление профессионально значимых способностей, опыта.
Состояние сомнения, которое нередко связано с состоянием тревожности (см.: § 2 гл. 5), как правило, является результатом неуверенности судьи при оценке доказательств по делу. Если такое состояние, сопровождающее его интеллектуальную деятельность, не устранено, оно должно послужить основанием для решения тех или иных вопросов в пользу подсудимого.
Возникающие сомнения, колебания при рассмотрении дел различной сложности нередко обостряют, заметно усиливают состояние тревожности, которое у некоторых лиц может приобретать еще большую силу воздействия на их психику, сознание, снижая волевую активность человека, приводя его к неоправданной, крайне выраженной нерешительности в своих выводах и суждениях при принятии решений. Особенно заметно это бывает у лиц психастенического типа с избыточно высоким уровнем тревожности, с ярко выраженными чертами тревожно-мнительного характера, что может рассматриваться в качестве одной из причин, объясняющих недостаточную профессиональную успешность некоторых юристов, появление у них различного рода психосоматических расстройств и заболеваний, связанных с их профессиональной деятельностью.
Поэтому судье необходимо постоянно сохранять на должном уровне самоконтроль за своим эмоциональным состоянием, настроением, поведением, особенно в процессе общения с окружающими его людьми, участниками процесса, с коллегами по работе. Ничто, в том числе и его личностные качества не должны вызывать у граждан сомнений в его объективности, справедливости и беспристрастности в отправлении правосудия.
Психологическое значение последнего слова подсудимого состоит в том, чтобы суд ушел в совещательную комнату под самым последним, непосредственным впечатлением от его доводов, отношения к содеянному, проявленного раскаяния.
Выделение
признаков судебной ошибки помогает
раскрыть ее сущность, чего нельзя сказать
о попытках выделения и классификации
причин судебных ошибок.
Отрицательное
отношение к подобным попыткам складывается
потому, что выделение причин судебных
ошибок сводится к простому перечислению
факторов, способных повлиять на
возникновение ошибки. Попытки же
классифицировать выделенное в принципе
не имеют ни познавательного, ни
практического значения. Термин «причина»,
используемый применительно к факторам,
повлекшим судебную ошибку, вводит и
исследователей, и правоприменителей в
заблуждение, поскольку определенное
явление без достаточных к тому оснований
пытаются представить понятием, имеющим
философские корни. Философская категория
«причина», изучаемая в философии
в совокупности с другой категорией —
«следствие», фиксирует генетическую
связь между явлениями, когда одно явление
(причина) своим действием вызывает
(порождает) другое явление (следствие)
*(59).
Исследователи причин судебных ошибок
эту связь (причина — следствие) разрывают,
а фактически философскую категорию
«причина» низводят до обыденного
уровня и соединяют ее с понятием
«условие».
Устойчивое
словосочетание «причины и условия
судебных ошибок» (сейчас уже трудно
определить, с чьей легкой руки оно вошло
в обиход и при каких обстоятельствах
возникла эта устойчивость — здесь
возможен и субъективный фактор) настолько
утвердилось в юридической литературе,
что большинство авторов, по нашему
мнению, используют его, не задумываясь
о содержательной стороне.
С
лингвистической точки зрения употребление
словосочетания «причины и условия»
более привлекательно, чем употребление
терминов «обстоятельства» или
«факторы» (хотя, в сущности, именно
о них и речь). Но употребивший такое
словосочетание исследователь попадает
в ловушку: он встает перед необходимостью
найти и раскрыть эти причины, а столкнувшись
со множеством факторов, влекущих судебные
ошибки, невольно пытается их упорядочить,
классифицировать. Именно эта деятельность,
на наш взгляд, и является тупиковой.
В
действительности же подход к указанной
проблеме должен быть иным. Начнем с
того, что многообразные явления жизни
не всегда и не везде могут быть поняты
через категорию «причина». Принцип
причинности — исторически первый
универсальный объяснительный принцип
в научном познании. долгое время имела
место абсолютизация объяснительного
статуса принципа причинности. Однако
переход науки к более сложным объектам
обнаружил множество иных, не причинных
зависимостей; освоение наукой различного
рода социальных систем обусловило
формирование новых категорий — «цель»,
«самоорганизация», «прямые и
обратные связи» и др.
*(60)
Все
это указывает на отсутствие необходимости
искать именно причины, поскольку факторы
влияния более разнообразны и не могут
быть полностью сведены к причинным
связям. Поэтому если в поисках причин
судебных ошибок исходить из первоначального
философского понятия причины как
категории, то база исследования сузится
— не все факторы, влекущие судебные
ошибки, могут быть определены как
причины. Если же причинами называть все
факторы, влекущие судебные ошибки, тогда
следует освободиться от «философских
корней» и оговаривать, что используется
только термин, ничего общего с философской
категорией не имеющий. Последний вариант,
возможно, покажется удобным, но с научной,
познавательной точки зрения он должен
быть отвергнут, поскольку ведет к
заблуждениям.
Одним
из таких заблуждений, как было сказано
выше, являются попытки классифицировать
причины судебных ошибок либо
классифицировать и причины, и условия
судебных ошибок.
Любая
классификация является способом познания
конкретного явления, помогает раскрыть
его сущность. Примером может служить
известная в гражданском процессуальном
праве классификация доказательств.
Такая классификация имеет не только
познавательное, но и практическое
значение: так и выделение косвенных
доказательств помогает выработать
правила их использования.
В
познавательном и практическом значениях
классификации причин (и условий) судебных
ошибок следует усомниться. Такая
классификация либо надуманна, либо
сводится к простому перечислению причин,
результатом которого становятся
неконкретные и неисчерпывающие перечни.
Причины
судебных ошибок в литературе обычно
сводят к объективным и субъективным.
Так, А.С. Грицанов все причины ошибок
подразделял на две группы: причины, не
связанные с личностью судьи (т.е.
объективные), и причины субъективного
характера. К первой группе он относил
наличие подготовки к судебному заседанию,
качество проведенного судебного
разбирательства, совершенствование
материальных законов и условия работы
судей; ко второй — юридическую и
профессиональную подготовку судьи, его
профессиональные качества, уровень
правосознания и общей культуры,
психологическую подготовку
*(61).
И.М. Зайцев, напротив, причины судебных
ошибок видел главным образом в личностном
начале, полагал, что причины эти
субъективны. Другие факторы тоже
оказывают воздействие, но их роль
настолько незначительна, что можно либо
пренебречь ими в практической деятельности,
либо отнести их к условиям совершения
ошибок
*(62).
Причинами судебных ошибок И.М. Зайцев
считает: недостаточную юридическую
квалификацию судей; недобросовестное
отношение к выполнению служебных
обязанностей; совершение судьями
преступных действий. Первопричины
судебных ошибок, по его мнению, находятся
за пределами судопроизводства и имеют
непроцессуальный характер. Кроме того,
автор настаивает на важности отграничения
причин судебных ошибок от условий,
которые более многочисленны, связаны
с судебным познанием, судебным
правоприменением, организацией работы
суда, общими условиями жизнедеятельности
судей
*(63).
В
современных исследованиях авторы,
отмечая разнообразие представленных
в различных источниках причин судебных
ошибок, все же предлагают свести их к
двум группам: обстоятельствам субъективного
характера и обстоятельствам, имеющим
объективный характер
*(64).
Другие авторы сосредотачиваются в
работах на отдельных факторах, влекущих
судебные ошибки, — проблемах подготовки
судьи-профессионала и отбора кандидатов
на должность судьи
*(65)
(что отмечается как фактор субъективный)
или проблемах действующего законодательства,
применяемого судьями, и отвлечения их
на выполнение не свойственных правосудию
функций
*(66)
(объективные факторы). Г.А. Жилин,
отстаивающий узкий подход к определению
сущности судебной ошибки, выделяет в
качестве причин судебных ошибок проблемы
в профессиональной подготовке и
недостаточный опыт работы судьи;
недостатки в сфере индивидуальных
психологических свойств личности судьи;
небрежность и упущения в работе
*(67).
Таким образом, он выделяет именно
субъективные факторы.
Оценивая
упомянутые исследования, следует
отметить, что ни одно из них не создает
цельной картины затронутой проблемы.
Каждый исследователь может иметь
собственный взгляд на эту проблему, и
каждый будет прав и неправ одновременно:
прав, поскольку укажет на конкретные,
имеющие место факторы, действительно
влекущие судебные ошибки; неправ,
поскольку на отдельных примерах будет
пытаться построить единую конструкцию,
применимую для всех без исключения
рассматриваемых судом дел. Между тем
любое рассматриваемое судом дело
независимо от его сложности сугубо
индивидуально, требует индивидуального
подхода.
Непродуктивными
следует признать и попытки отграничения
причин судебных ошибок от условий их
совершения. В этих случаях авторы опять
же берутся за классификацию, однако в
итоге не могут дать ни четкого разделения
понятий, ни выстроить имеющую практическое
либо познавательное значение систему.
Это особенно показательно демонстрируют
конкретные диссертационные исследования.
Е.Г.
Тришина предлагает причины судебных
ошибок подразделять на основные и
второстепенные, или причины первого и
второго порядка. Основную причину автор
определяет как причину, «которая при
определенном условии или условиях с
необходимостью
(выделено мною. — Л.Т.) порождает судебную
ошибку». Второстепенная причина —
«такое обстоятельство, которое при
определенных условиях лишь может
породить негативные последствия»
*(68).
В указанном разделении уже заложено
противоречие, поскольку сама же Е.Г.
Тришина причины всех судебных ошибок
определила как «обстоятельства, с
неизбежностью порождающие отрицательные
последствия при определенных условиях»
*(69).
Таким образом, определение причин
судебных ошибок в целом и определение
основной причины совпадают. В этом
случае получается, что обстоятельства,
выделенные в классификации как
второстепенные причины, в качестве
причин вообще рассматриваться не могут,
поскольку не подпадают под общее
определение причин судебных ошибок,
самим автором и предложенное.
Основные
причины судебных ошибок Е.Г. Тришина
предлагает подразделять на субъективные
и объективные. К субъективным она относит
недостаточный уровень образования,
профессиональной подготовки; халатное,
безответственное отношение к служебным
обязанностям; злоупотребление должностным
положением и др.; к объективным причинам
— противодействие и осложнение деятельности
судей юридически и фактически
заинтересованными лицами; противоречивость,
неясность и громоздкость действующего
законодательства и др. Второстепенные
причины Е.Г. Тришина не подвергает
внутренней классификации, а лишь
перечисляет их: сложность установления
истины, односторонность и неполнота
доказательств, сложный процесс логического
вывода и др.
*(70)
Обратим
внимание, что все предложенные автором
перечни приблизительные по характеру
и открытые (неисчерпывающие). При этом
автор не предлагает какой-либо сущностной
характеристики, объясняющей, почему
одни факторы отнесены к основным
причинам, другие — к второстепенным,
почему одни из основных причин названы
субъективными, другие — объективными.
А такие сущностные характеристики (при
заявленной важности классификации
причин) совершенно необходимы. Поскольку
перечни, предложенные Е.Г. Тришиной, —
открытые, то при необходимости отнести
фактор, прямо не названный в перечне, к
тому или иному виду причин судебных
ошибок правоприменитель столкнется с
вопросом: каким критерием при этом
следует руководствоваться?
Кроме
того, само распределение факторов по
классификационной схеме тоже вызывает
возражения. Как уже было указано,
односторонность и неполноту доказательств
Е.Г. Тришина относит к второстепенным
причинам. Но такой дефект доказательств
в равной мере может образоваться как
вследствие халатного отношения к
служебным обязанностям (то, что автор
определил в своей классификации как
основную и субъективную причину), так
и вследствие противодействия судье со
стороны заинтересованных лиц (то, что
классифицировано как причина основная
и объективная). Налицо неоднозначные,
зависящие исключительно от характера
конкретного дела причинно-следственные
связи факторов, укладывать которые в
жесткие схемы в принципе нецелесообразно.
Тем не менее Е.Г. Тришина предлагает
классифицировать не только причины, но
и условия совершения судебных ошибок,
и также выделить основные и дополнительные
*(71).
В основу этой классификации также
положены неисчерпывающие перечни,
отсутствуют сущностные характеристики,
которые позволили бы прямо не указанные
в перечнях факторы классифицировать
на основные и дополнительные. Не
предложены также сущностные характеристики,
позволяющие разграничить причины и
условия. В связи с этим некоторые моменты
вызывают недоумение: почему, к примеру,
профессиональная самоуверенность
отнесена к дополнительным условиям, а
не к субъективным причинам судебных
ошибок? Недоумение вызывает и отсутствие
анализа конкретных условий судебных
ошибок, пусть даже выборочного и
фрагментарного, как это сделано в
отношении некоторых причин судебных
ошибок.
Вероятно,
Е.Г. Тришина чувствует уязвимость своей
позиции, иначе никак нельзя объяснить
ее парадоксальный и из предшествующих
рассуждений, казалось бы, не вытекающий
вывод. Автор приходит к выводу не о
взаимозаменяемости причин и условий,
не о возможности перехода причины в
условие и наоборот, а о том, что «меняться
местами могут сами причины и условия
между собой, т.е. основная причина может
стать второстепенной, а дополнительное
условие может стать основным, и наоборот»
*(72).
Если
же причины и условия могут меняться
местами, то в чем тогда смысл их выделения
и классификации? Здесь не усматривается
ни познавательного, ни практического
значения. Любая попытка практической
реализации выводов о разделенных
причинах и условиях приведет к
недоразумениям.
Например,
Б.В. Красильников называет несовершенство
законодательства условием совершения
судебных ошибок и определяет, в каких
формах это несовершенство проявляется:
нечеткость формулировки; противоречие
нормативным актам, имеющим равную или
большую юридическую силу; пробел в
законодательстве; несоответствие
требований нормы условиям реальности.
Однако далее все выделяемые формы
проявления несовершенства законодательства
он подразделяет на причины и условия,
при этом нечеткость формулировок у него
— условие совершения судебных ошибок,
а все остальные названные формы — причина
*(73).
Такая позиция вызывает недоумение.
Несовершенство законодательства автор
изначально отнес к условиям совершения
судебных ошибок. Почему же три из четырех
форм такого несовершенства он затем
классифицирует как причины совершения
судебных ошибок? Налицо утрата
провозглашенного самим же автором
классификационного критерия, при котором
«причина с необходимостью порождает
следствие только при наличии определенных
условий»
*(74).
Путаница
в понятиях происходит от того, что авторы
задаются целью создать общую конструкцию,
между тем как любое судебное дело —
индивидуально. Провозглашение важности
отделения причин от условий и необходимости
классификации причин и условий вступает
в противоречие с реальным результатом
такого разграничения и классификации.
При конструировании общей схемы путаница
и смешение понятий неизбежны. Сказанное
не означает, что отсутствуют факторы,
вызвавшие судебную ошибку. Они имеются,
только в каждом конкретном деле они
индивидуальны. Для каждого дела, где
допущена судебная ошибка, сложится своя
уникальная ситуация, исходя из которой
можно будет определить, какие факторы
эту ошибку повлекли.
Не
следует забывать о том, что судебная
ошибка представляет собой недостижение
целей судебной деятельности и возникает
только при принятии итогового судебного
акта. Классификаторы причин судебных
ошибок видят их слишком широко, понимая
под судебными ошибками любые неправильности,
чем делают задачу классификации еще
более трудной: при этом нужно
классифицировать бесконечное число
факторов.
Личный
опыт автора, неоднократно принимавшего
участие в обобщении судебной практики
в судах Омской области, свидетельствует
о том, что при выявлении факторов,
порождающих судебные ошибки, к каждому
судебному делу следует подходить
индивидуально, каждое судебное дело
следует отдельно изучать, не укладывая
его в заранее заготовленные абстрактные
и обобщенные схемы. Сначала обнаружится
повторяемость, потом выявится тенденция.
Движение от частного к общему, «снизу»,
когда конкретные дела впоследствии
группируются в зависимости от выявленных
погрешностей в судебной деятельности,
помогает реально обобщать сложившуюся
практику и выявлять тенденции. В
большинстве судебных дел допущенные
нарушения индивидуальны и не могут быть
подвергнуты обобщению. Большинство
таких нарушений, кроме того, не является
судебными ошибками.
При
знакомстве с делами, рассмотренными
судами Омской области, автором были
выявлены два типа повторяющихся
нарушений: необоснованный переход к
заочному производству; неправильное
определение состава лиц, участвующих
в деле, и их процессуального положения
в делах с участием несовершеннолетних.
Необоснованный
переход к заочному производству связан
с неправильным применением ч. 1 ст. 233
ГПК РФ. Однако выявленная тенденция не
означает, во-первых, что во всех случаях
имели место именно судебные ошибки, а
во-вторых, что факторы, повлекшие судебные
ошибки, — одинаковы.
Например,
по одному из дел иск был заявлен ОАО
«Омский аэропорт» к ответчикам
Ишалову, Бородаенко, Токареву и
Огородникову
*(75).
В судебное заседание не явились все
четверо ответчиков, но у двоих в деле
были заявления о рассмотрении дела в
их отсутствие, а со стороны двух других
(Ишалова и Токарева) присутствовали
представители.
В
такой ситуации не было оснований выносить
заочное решение. Вместе с тем неправильное
применение судом нормы процессуального
права в данном случае нельзя рассматривать
как судебную ошибку — оно не привело и
не могло привести к неправильному
разрешению дела. Нет здесь и безусловного
основания к отмене, когда дело
рассматривается судом в отсутствие
кого-либо из лиц, участвующих в деле, не
извещенных о времени и месте судебного
разбирательства (п. 2 ч. 2 ст. 364 ГПК РФ),
поскольку ответчики по делу были
надлежащим образом извещены. Уверенно
говорить об отсутствии в данной ситуации
судебной ошибки позволяет именно
индивидуальный подход к делу. Иск ОАО
«Омский аэропорт» представляет
собой один из регреcсных исков, которые
начиная с 1985 г. предъявляются к ответчикам,
признанным по приговору суда виновными
в авиакатастрофе в Омском аэропорту 11
октября 1984 г. пассажирского самолета,
повлекшей гибель пассажиров, экипажа,
материальный ущерб. ОАО «Омский
аэропорт» выплачивает периодические
платежи потерпевшим и регулярно
обращается с регресcными исками к
непосредственным виновникам авиакатастрофы.
Ни для кого из участников правоотношения
ничего нового исходная ситуация не
содержит. Ответчики представляют
документы о размере доходов, на основании
которых просят снизить размер взыскиваемой
суммы. В личной явке в суд они уже давно
не заинтересованы, так как знают
обстоятельства дела и уверены, что их
материальное положение при вынесении
решения будет учтено. Отсутствие
ответчиков в судебном заседании по
такому делу само по себе не повлечет
судебной ошибки. Хотя в другом деле, где
подобных обстоятельств не было бы,
фактор отсутствия ответчика (ответчиков)
мог бы означать, что правосудие не
достигло цели и совершена судебная
ошибка. Вот почему бесполезны клише и
заранее сформулированные схемы причин
и условий судебных ошибок. То, что
теоретически должно ошибку вызвать, ее
не вызывает, и, наоборот, не учтенный в
схеме фактор может повлечь судебную
ошибку. Только индивидуальный подход
к упомянутому делу позволяет сделать
вывод: процессуальные нарушения по делу
были, но не было судебной ошибки.
В
другом деле, по которому также выносилось
заочное решение, обстоятельства сложились
несколько иначе. Новиков, управляя
автомобилем, принадлежащим Семенову,
в интересах которого он выполнял работу
по гражданско-правовому договору,
допустил наезд на пешехода Новокшенову,
последняя в результате ДТП скончалась.
Новиков был осужден к лишению свободы.
Муж погибшей (инвалид) в интересах
малолетнего ребенка предъявил иск к
Новикову и Семенову как солидарным
ответчикам о возмещении вреда лицу,
потерявшему кормильца
*(76).
В исковом заявлении местом нахождения
Новикова было названо место, где он
отбывал наказание, а место жительства
Семенова было указано неправильно.
Новикову ни исковое заявление, ни
повестку вручить не смогли, так как к
тому времени он уже освободился, а
повестка, направленная Семенову,
вернулась с отметкой «не проживает».
При таких условиях заочное решение
нельзя было выносить, поскольку не было
соблюдено одно из условий — надлежащее
извещение. К тому же в силу ч. 1 ст. 1079 ГК
РФ в данном случае в качестве ответчика
необходимо было привлечь только Новикова,
что полностью соответствовало
установленному статьей понятию «владелец
источника повышенной опасности». Суд
допустил сразу два нарушения: рассмотрел
дело в отсутствие ответчика, не извещенного
надлежащим образом о времени и месте
судебного заседания, и привлек в качестве
одного из ответчиков ненадлежащее лицо.
Налицо судебная ошибка, так как цели
судопроизводства не достигнуты, судебная
защита не состоялась. При исполнении
этого ошибочного решения место жительства
Семенова как должника по исполнительному
производству было установлено. Поскольку
о состоявшемся судебном решении он
узнает только от судебных приставов,
то подает в суд, вынесший заочное решение,
заявление о его отмене с ходатайством
о восстановлении срока подачи заявления.
Судья удовлетворяет заявление и отменяет
свое заочное решение. Одну из своих
прежних ошибок при новом разбирательстве
судья устраняет: он признает надлежащим
ответчиком Новикова и именно в отношении
него выносит решение. В судебном заседании
при этом участвовал Семенов; места
жительства Новикова после освобождения
так и не установили, копии искового
заявления, извещения о месте и времени
рассмотрения дела ему не вручали. Тем
не менее суд вынес в отношении него
решение, причем снова заочное. В данном
случае вновь налицо судебная ошибка,
правосудие не достигло цели, ведь
ответчик был лишен возможности участвовать
в рассмотрении дела и повлиять на
характер решения. Несмотря на установленную
приговором вину, Новиков мог оспаривать
размер предъявленных к нему требований,
сложившихся из материального и морального
вреда. Выявить судебную ошибку помог
именно индивидуальный подход к делу.
Приведенное выше дело по иску ОАО «Омский
аэропорт» тоже имело в основе приговор
суда по уголовному делу, но отсутствие
ответчиков в судебном заседании к ошибке
не привело.
Приведенные
дела использованы как иллюстрация к
тезису о том, что на окончательный
результат по делу влияет множество
факторов, но в то же время одни и те же
факторы могут либо оказывать, либо не
оказывать влияние на конечный результат.
При этом повторяемость нарушений в
конкретной сфере не означает, что все
они — судебные ошибки.
Индивидуальный
подход к каждому делу позволяет вычленить
повторяющиеся нарушения, и они становятся
пригодными к качественному обобщению.
Обобщение же позволяет не только
устранить ошибку в конкретном деле, но
и путем публикаций, издания постановлений
Пленума, проведения учебы судей вести
профилактику судебных ошибок, оказавшихся
типичными.
Например,
при обобщении автором дел о возмещении
вреда, рассмотренных судами Омской
области, выявилась типичная ошибка,
связанная с неправильным определением
состава лиц, участвующих в деле, и
процессуального положения каждого из
них. Все указанные ошибки были допущены
при рассмотрении дел с участием
несовершеннолетних. Согласно ст. 1074 ГК
РФ несовершеннолетний, достигший 14 лет,
сам отвечает за причиненный вред. Он
вправе лично защищать свои права в суде,
однако суд обязан привлечь к участию в
таких делах его законных представителей
(ч. 4 ст. 37 ГПК РФ). Права несовершеннолетних
в возрасте до 14 лет защищают в судебном
процессе их законные представители,
однако суд обязан привлекать к участию
в таких делах и самих несовершеннолетних
(ч. 3 ст. 37 ГПК РФ). Необходимо привлекать
обоих родителей, поскольку в соответствии
со ст. 61 Семейного кодекса РФ родители
имеют равные права и несут равные
обязанности в отношении своих детей.
Неправильное
понимание судьями зависимости между
нормами материального и нормами
процессуального права, влияния
материального правоотношения на состав
участников и их процессуальное положение
привело к судебным ошибкам сразу в
нескольких делах.
По
одному из них в качестве ответчика была
привлечена только одна из несовершеннолетних
(17 лет), хотя из приговора суда, приобщенного
к делу, усматривалось, что преступление
она совершила совместно с младшей
сестрой, освобожденной от уголовной
ответственности за недостижением
возраста
*(77).
Основанием
для возбуждения другого дела о возмещении
вреда послужил факт избиения 15-летним
подростком мальчика 13 лет. Иск был
предъявлен отцом потерпевшего, последний
к участию в деле не привлекался, мать
потерпевшего была привлечена как третье
лицо без самостоятельных требований
на стороне истца. В качестве ответчиков
привлечены оба родителя правонарушителя,
а последний привлечен как третье лицо
на стороне ответчиков. При рассмотрении
дела по иску отца 15-летнего мальчика
(пострадавшего в ДТП) суд привлекает
подростка в качестве третьего лица,
мать пострадавшего — тоже как третье
лицо. Аналогичные нарушения допущены
этим же судом при рассмотрении других
дел
*(78).
Иногда неправильно определяются
участники с обеих сторон: иск заявлен
отцом 15-летней потерпевшей, которая
вообще к участию в деле не привлекалась;
не привлечен к участию в деле и 15-летний
виновник происшествия
*(79).
Повторяемость
названных ошибок позволяет говорить о
тенденции допущения судебных ошибок
во всех перечисленных случаях. Типичная
ошибка выявилась не потому, что у автора
была заранее разработанная схема, а
потому, что она двигалась снизу, от
каждого конкретного дела; обобщение
этих дел позволило выявить повторяемость
нарушений, связанных с неправильным
определением субъектного состава в
делах с участием несовершеннолетних.
Фактором,
повлекшим судебные ошибки, в этом случае
является неправильное понимание
механизма действия норм материального
и процессуального права в их совокупности
при рассмотрении дел, где ущерб причинен
несовершеннолетними лицами.
Несмотря
на то что выявленные ошибки повторялись,
они не утратили индивидуальных свойств.
В одном из дел это было неправильное
понимание зависимости действий суда,
рассматривающего гражданское дело
(ответчицей была только осужденная
девушка), от результата рассмотрения
дела уголовного. В другом случае 15-летние
подростки не привлекались к участию
как истцы или ответчики соответственно,
но здесь влияние оказывает, на наш
взгляд, переход от Гражданского
процессуального кодекса 1964 г. (возрастная
граница ст. 32 ГПК РСФСР как раз и была
установлена в 15 лет) к ГПК РФ 2002 г. — дела
рассматривались в переходный период.
Таким образом, единый фактор — неправильное
понимание механизма взаимодействия
норм материального и процессуального
права — неоднороден. Это означает, что
в каждом деле (а в наших примерах — и в
тех делах, где, казалось бы, выявлена
типичная ошибка) совокупность факторов,
повлекших судебную ошибку, будет
индивидуальной. Стало быть, если и есть
смысл выделять причины и условия,
классифицировать их, то необходимо
осуществлять это применительно к
конкретному делу.
Попытки
создать универсальную модель приводят
лишь к тому, что появляются неисчерпывающие
перечни факторов влияния, не устраняющие
изначальную «спорность» вопроса
о том, относить ли фактор к причинам или
условиям и каково его место в системе
классификационных критериев.
На
наш взгляд, следует отказаться от поиска
именно причин судебных ошибок, поскольку
данный термин неудачен. Попытка выделения
именно причин создает иллюзию, что
судебные ошибки можно искоренить раз
и навсегда, стоит только путем отделения
причин от условий, путем создания точной
классификации эти самые причины
установить. Создается иллюзия, что
выявление причины и ее устранение
приведут к ликвидации судебных ошибок.
Между тем судебные ошибки неизбежны, и
можно говорить лишь о минимизации их
количества и системе их эффективного
устранения. С точки зрения этой
практической цели имеет смысл говорить
не о причинах судебных ошибок, а о
факторах, их порождающих, причем для
каждого конкретного дела.
Предложение
заменить термин «причины судебных
ошибок» термином «факторы, вызывающие
судебные ошибки», уместно потому, что
термин «фактор» своей универсальностью
поглощает и то, что в настоящее время
пытаются назвать «причинами», и
то, что пытаются выделить как «условия».
В такой замене нет игры слов или словесной
перелицовки, но в то же время нет и
введения новой категории либо нового
процессуального института, поскольку
явление, требующее своего обозначения,
существует. В настоящее время это
явление, будучи обозначенным двумя
терминами («причины и условия»),
создает иллюзию нескольких составляющих.
Исследователи пытаются вычленить эти
составляющие, упорядочить их и
классифицировать. Выше на конкретных
примерах (подробное представление
диссертационных исследований и конкретных
судебных дел) показана бесперспективность
подобного пути. Представляется, что в
данном случае сложилась уникальная
ситуация: однажды выбранные и явно
неудачные термины довлеют над содержанием
явления. Поэтому и предлагается удалить
из юридического обихода два термина,
груз которых заставляет искать пути
решения несуществующих проблем (напр.,
«проблем» классификации причин и
условий).
Психологические основы предупреждения судебных ошибок
Жегалов Е.А., судья Первомайского районного суда г. Новосибирска.
Служба правосудию требует полной, беззаветной отдачи умственных и психологических сил, что, безусловно, и отличает работу председательствующих судей. Однако всем известно, что имеют место судебные ошибки, для исправления которых законом предусмотрены вторая и иные судебные инстанции.
Требования закона о быстром и правильном рассмотрении дела ставят очевидный вопрос: как суду первой инстанции минимизировать, предупредить, избежать возможных судебных ошибок и рассмотреть дело в разумный срок? Для ответа на этот вопрос недостаточно владеть только юридической материей по той или иной категории дел, необходимо иметь представление о психологических закономерностях судопроизводства.
К сожалению, эта сфера мало исследуется и даже представляет собой некое табу. Порой судьи в печати рисуются как подобия божеств, способные на все и лишенные человеческих слабостей, а в негативном контексте подаются как субъекты, зависимые от наиболее влиятельной стороны. Полагаем, что и то, и другое недопустимо. Кроме реальных гарантий независимости судей следует знать и задумываться над предупреждением судебных ошибок, имеющих психологическую основу, влекущих существенные юридические последствия.
Судьи такие же люди, как и все, и живут в одной социальной системе с окружающим обществом, а общество имеет такой суд, какой достойно иметь.
Полагаем, любой судья знает, что на практике «только ленивая сторона не пытается повлиять на председательствующего или состав суда». Это воздействие может быть совершенно недопустимым или законно и этически приемлемым. Например, если это допускают правила внутреннего распорядка работы суда — неоднократное появление на приеме у судьи.
Ежедневно и ежечасно судьи решают задачу, как преодолеть это воздействие, не допустить в этом перегиба, ведущего к необъективности, как адекватно противостоять собственному предубеждению, ошибкам и заблуждениям, общественному мнению, совету вышестоящего коллеги, корректному или некорректному пожеланию влиятельного субъекта.
При этом судья вынужден действовать в соответствии со временем. Судебный акт не должен быть отражением ни дня вчерашнего, ни дня будущего. И мышление вчерашнего дня, и мышление дня будущего, опережающее свое время, могут быть отвергнуты последующей инстанцией как неверные и, будучи по существу правильными и справедливыми, могут быть сочтены судебной ошибкой.
Читая постановления последующих судебных инстанций, любой субъект часто испытывает удивление в связи с тем, почему суд первой инстанции допустил ошибку, неправильно оценил доказательства, истолковал или применил закон, не заметил очевидного. Во многом понять этот феномен можно, ознакомившись с теорией бессознательной психики.
Несомненно, отправление правосудия — глубоко сознательная деятельность. Сознание же — сравнительно недавнее приобретение эволюции живых организмов. До этого живое обходилось без сознания, только рефлексами и физиологическими программами (пчелы, муравьи, птицы и т.д.). Поэтому с начала эволюции живого в каждой его особи генетически сформировались огромные ресурсы бессознательной психики. У людей и высших животных только небольшой верхний пласт психики составляет само сознание. Его особенность — осознавать только то, что содержится в нем самом. Содержание же сознания человека во многом определяется работой цензора — предсознательной психики, прослойки между бессознательной и сознательной частью психики, которая вытесняет, удаляет в бессознательное все, что так или иначе угрожает сознанию. С другой стороны, подсознательные влечения, заложенные генной программой, проникают в сознание сквозь цензора, трансформируясь в осознанные желания и мотивы, движущие поступками и решениями человека.
Возникает вопрос: что может угрожать сознанию и вытесняться из него? По нашему мнению, в психике заложены механизмы, вытесняющие из сознания то, что, будучи логически оценено осознающей личностью, дает ей отрицательную оценку в той или иной мере. Не случайно жестокие убийцы порой сами вершили суд над собой, если не становились сумасшедшими. Чаще всего к самоубийству человек приходит, сознательно, логически взвесив смысл дальнейшего существования, решив, что он не в силах более нести моральный груз.
Учитывая, что совершение ошибок в деятельности неизбежно, нормальная психика обладает защитой от деморализующего воздействия допущенных ошибок, вытесняя, забывая то, что угрожает сознанию. Так, например, замечено, что если нас обидели незаслуженно, то мы это долго помним, при случае опровергаем, а порой готовы отомстить. Если же критика была справедливой, то она быстро забывается.
Кроме описанного механизма вытеснения существуют и действуют другие мощные защитные механизмы: отрицание — уход в фантазию, отрицание какого-либо события как неправды; рационализация — бессознательная попытка оправдать, объяснить свое неправильное или абсурдное поведение, построение приемлемых моральных, логичных обоснований; инверсия или противодействие — подмена действия, мысли, чувств, отвечающих подлинному желанию, на диаметрально противоположные поведение, мысли, чувства; проекция — бессознательная попытка приписать другому человеку свои собственные качества, мысли, чувства; замещение — проявление эмоционального импульса переадресовывается от более угрожающего объекта или личности к менее угрожающему; изоляция — отделение угрожающей части ситуации от остальной психической сферы; регрессия — возвращение на более ранний, примитивный способ реагирования [4, с. 62 — 64].
Во многом судебные ошибки объясняются проявлением закономерностей психоаналитической теории ошибочных действий. К ошибочным действиям относятся: оговорки, когда вместо одного слова употребляют другое; описки, когда это происходит при письме; очитки, когда читают не то, что напечатано; ослышки, когда человек слышит не то, что ему говорят; забывание имени, намерения, запрятывание, затеривание, ошибки — заблуждения и т.д. [5, с. 12]. Все эти действия не связаны с физиологическими расстройствами и возникают тогда, когда внутренние побуждения человека приходят в противоречие с тем, что он должен совершить по роду деятельности. В этих случаях, как правило, глубокосознательная часть личности, называемая «Сверх-Я», — совесть, идеалы, убеждения — действует на бессознательном уровне и порой настолько фальсифицирует окружающее, что обыденное сознание не замечает очевидного.
Показателен интересный пример. Суд рассматривал дело о признании гражданина недееспособным. В период действия ГПК РСФСР слушания происходили в коллегиальном составе суда — председательствующий судья и два заседателя, с участием прокурора и представителя органа опеки и попечительства. Заявитель вел дело крайне небрежно: не указал место нахождения истории болезни сына, не являлся в суд, что повлекло оставление заявления без рассмотрения, после назначения экспертизы не принял мер к представлению больного экспертам. Через 1,5 года после пяти заседаний суд огласил решение в отсутствие заявителя. При этом все процессуальные правила были соблюдены: решение оглашено в зале судебного заседания, а в ходе разбирательства и при оглашении присутствовали кроме состава суда прокурор и представитель органа опеки и попечительства, т.е. пять независимых субъектов. Когда же, опять-таки по своей небрежности, через месяц заявитель получил решение, он обнаружил, что суд признал недееспособным не сына, а его самого. В этом случае бессознательная совесть каждого участника заседания посчитала недееспособным именно заявителя и не заметила описки в решении, так как он совершенно ненадлежащим образом и даже неадекватно относился к своим процессуальным правам и обязанностям, хотя с юридической точки зрения вопрос о его недееспособности никто не ставил. Не случайно, испытанное временем, наше процессуальное законодательство содержит институт исправления описок в решении.
Следует знать председательствующим судьям и учение о внутренних конфликтах человека. Так, например, межролевые конфликты — между социальными ролями профессионала и другими его социальными ролями — были замечены и изложены в отечественной литературе в 1977 [2, с. 26 — 27] и 1981 гг. [1, с. 76].
В жизни судья кроме роли профессионального председательствующего на процессе исполняет роль мужчины или женщины, сына или дочери, отца или матери, сестры или брата, потребителя товаров и услуг, пациента, нанимателя или собственника недвижимости, члена садового общества, водителя или пассажира автомобиля, возможно, преподавателя или аспиранта и т.п. Различное отношение к оцениваемым в юридическом процессе событиям, проистекающее от названных и иных ролей, формирует внутренний межролевой конфликт в подходах к оценке происходящего. Например, если председательствующий ранее в своей жизни являлся жертвой похитителей автомобилей или мошенников, то, рассматривая другие подобные деяния в процессе, он будет относиться к ним, возможно, иначе, чем тот судья, который в качестве потерпевшего в аналогичных событиях не участвовал. Решая жилищный или наследственный спор, размышляя над вопросами, кого следует признать членами семьи нанимателя жилого помещения, что значит «вести общее хозяйство», как оценить действия по принятию или непринятию наследства, судья волей или неволей обращается к личному опыту посредством погружения в иные социальные роли, которые он исполнял или исполняет.
Известен печальный пример, когда следователь прокуратуры передал обвиняемому, находящемуся под стражей, огнестрельное оружие для побега, поскольку в этом следователе внутренняя роль женщины, полюбившей обвиняемого, возобладала в межролевом конфликте над ролью стороны государственного обвинения.
Следует учитывать в работе судьи и большое влияние установки. Установка формируется элементами перцептивными, из представлений и восприятий (это хорошо, а это плохо), а также репродуктивными, воспроизведенными из памяти (будет так, как в прошлый раз). Таким образом, установка является следствием восприятия действительности, вступающим в противоречие с осмыслением и анализом событий в настоящем времени в ходе судебного разбирательства.
В ходе исследования, предпринятого Т.Г. Морщаковой, впоследствии судьей Конституционного Суда России, механизма воздействия психической установки на мыслительные процессы, на формирование ошибочных решений судьями были выявлены три основные группы судебных работников, допускавших типичные для них ошибки при рассмотрении уголовных дел.
Первые правильно устанавливали обстоятельства дела, но под влиянием установки о виновности подсудимого и обвинительного уклона, несмотря на наличие оснований для вынесения оправдательного приговора, не видели их и подписывали обвинительный приговор.
Вторые видели, что достаточные основания для вынесения обвинительного приговора отсутствуют, подсудимый должен быть оправдан, однако дело возвращали для проведения дополнительного расследования.
Третьи при недостаточности обвинения, подтвержденного в судебном заседании, участвовали в постановлении обвинительного приговора, но определяли меру наказания столь низкую, которая явно не соответствовала деянию, признанному совершенным [3, с. 473].
Психическая установка сопровождает любую деятельность человека, в том числе и судебную, и оказывает как положительное, так и отрицательное влияние.
Основываясь на сказанном, можно предложить председательствующим следующие рекомендации по предупреждению судебных ошибок.
- Надо объективно знать себя и свои собственные комплексы. В случае, когда разрешение дела их затрагивает, нужно обязательно вне судебного заседания и заблаговременно, до удаления в совещательную комнату, обсудить правовую ситуацию, не называя фамилий и точных наименований, с коллегами, на профессиональной учебе или с куратором.
- Если, принимая решение исходя из закона и обстоятельств, вы все же полагаете, что оно несправедливо, следует очень внимательно отнестись к проверке текста в резолютивной и окончательной формах, иначе собственные убеждения, срабатывая на бессознательном уровне, могут наделать «ошибок».
- Когда вы взволнованы или обижены действиями одной из сторон, нельзя поддаваться неприязни или симпатии, а необходимо постараться объективно оценить именно правовую ситуацию. Если замечено или известно из личного опыта, что эмоции берут верх, нужно сделать перерыв в процессе.
- Анализируя решения, которые отменены или изменены, следует обязательно записывать, хранить и помнить не только констатацию ошибки юридической, но и констатацию ошибки психологической. Например, констатация ошибки юридической — вынося заочное решение, суд должен убедиться, что в деле есть доказательства надлежащего извещения ответчика. Констатация ошибки психологической — не следует отрицательно относиться к ответчику, который не явился, и спешить выносить решение, хотя бы истец и говорил об ответчике плохо.
Литература
- Баев О.Я. Конфликты в деятельности следователя (вопросы теории). Воронеж, 1981.
- Котов Д.П., Шиханцов Г.Г. Психология следователя. Воронеж, 1977.
- Романов В.В. Юридическая психология: Учебник. М.: Юристъ, 2003.
- Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов н/Д: Феникс, 2000.
- Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. СПб.: Питер, 2001.
Библиографическое описание:
Ахмерова, А. А. Проблема судебных ошибок: причины возникновения и пути решения / А. А. Ахмерова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 11 (115). — С. 1237-1239. — URL: https://moluch.ru/archive/115/31218/ (дата обращения: 31.01.2023).
Проблема судебных ошибок: причины возникновения ипути решения
Ахмерова Алсу Ахматовна, магистрант
Санкт-Петербургская юридическая академия
В статье рассматриваются причины возникновения судебных ошибок, приводятся пути решения проблемы вынесения судьями ошибочных приговоров.
Ключевые слова: судебная ошибка, обвинительный приговор, дефицит кадров.
Keywords: judicial error, a guilty verdict, the shortage of personnel.
Многие века вопрос минимизации судебных ошибок не давал покоя законодателям, правозащитникам, обществу в целом. Страх применить высшую меру наказания за совершение лицом преступления, в котором он впоследствии может оказаться неповинен, не дает реализоваться некоторым идущим в ногу со временем законодательным инициативам. Так, один из основных аргументов противников смертной казни — высокая доля вероятности вынесения судом ошибочного приговора. Этой же линии придерживается и нынешнее руководство российского государства — мораторий на смертную казнь, по их мнению, явление логичное и необходимое. Так, Президент России В. В. Путин отмечает, что для эффективной борьбы с преступностью необходима грамотная работа пенитенциарной системы и всех правоохранительных органов, что реализовать гораздо труднее, чем пойти по пути применения смертной казни [3]. Действительно, с этим мнением трудно не согласится — совершенствуя и развивая систему подготовки и деятельности правоохранителей и судей, в будущем будет возможно добиться сокращения числа судебных ошибок, и как следствие, вынесения незаконных и неоправданных обвинительных приговоров.
В чем же кроется причина вынесения подобных решений? Согласно статистике, в зависимости от ее источника, количество оправдательных приговоров в России колеблется от 0,2 % до 0,5 % от общего числа вынесенных судьями приговоров. Возьмем за основу усредненную величину — 0,4 %, на которую ссылается Глава Управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Владимир Маркин [6]. Такую цифру он объясняет следующим образом: «Сегодня мы имеем 0,4 % оправдательных приговоров по уголовным делам. И это говорит лишь о том, что следствие очень квалифицированно и все дела, которые оно передавало в суд, расследовались тщательно, объективно и беспристрастно». Уверена, этому мнению найдутся многие противники, которые упомянут первую, на мой взгляд, причину возникновения судебных ошибок — явный обвинительный уклон правоохранительной системы.
Органы следствия и дознания далеко не всегда работают тщательно. Напротив, большая нагрузка на сотрудников порождает стремление ускорить процесс, закрыть дело. При этом зачастую не попадают в поле зрения следователей и дознавателей факты, имеющие ключевое значения, показания свидетелей и участников следствия не исследуются в полном объеме. Как следствие, задачей данных правоохранительных органов становится не добиться истины в разумный срок, а обвинить в кратчайший срок. Как только это происходит, и дело передается в суд, начинается следующая стадия уголовного процесса, в которой отражаются следующие причины возникновения судебных ошибок.
Во многих субъектах Российской Федерации постоянно открыты конкурсы на замещение должностей судей различного уровня, что говорит о дефиците в квалифицированных судьях, и в то же время о большой нагрузке на действующих судей. Дела, назначенные на слушание с 10 утра до 17–18 часов вечера, крайне редко оканчиваются в назначенное время, в большинстве случаев судьи покидают рабочее место задолго после установленного времени, вплоть до полуночи. В связи с такой загруженностью, видится логичным стремление судей максимально быстро и оперативно рассмотреть дело и вынести по нему приговор. Из-за крайне плотного графика у судей, в подавляющем большинстве случаев, нет возможности максимально полно и объективно исследовать материалы и обстоятельства переданных им дел. Поскольку значительно проще лишь согласиться с выдвинутым следствием обвинением, чем выработать собственную позицию по делу, основанную на представленных доказательствах, показаниях сторон и внутреннему убеждению судьи, видится логичным столь малый процент оправдательных приговоров. Из этого следует вторая причина возникновения судебных ошибок — дефицит кадров и плотная загруженность в работе судейского корпуса.
Следующей, третьей по счету причиной, но все же не основополагающей, можно назвать недостаточную компетентность судей, их низкую квалификацию в отдельных случаях. Дефицит судей располагает к тому, чтобы к сдаче квалификационного экзамена и замещению соответствующей должности допускались кандидаты, не всегда отвечающие в полной мере заявленным к должности судьи требованиям.
К иным причинам возникновения судебных ошибок, можно отнести, в частности следующие [8, c. 556–558]:
– несовершенство отдельных процессуальных норм в части, например, пассивности суда первой инстанции при формировании доказательственной базы по делу и проблемности полномочий апелляционной инстанции при предоставлении новых доказательств [5, с. 124];
– несовершенство правового статуса апелляционной инстанции, способствующего поверхностному рассмотрению сложного дела судом первой инстанции за счет полного его перерешения и невозможности направления его апелляцией на новое рассмотрение, неудовлетворительное качество работы почтовой связи и отсутствие достоверных данных о местонахождений многих частных фирм как причина нарушений сроков рассмотрения арбитражных дел, небрежность и безответственность судей вследствие действия принципов их несменяемости и невозможности привлечения к дисциплинарной ответственности; различный подход судебных инстанций к оценке имеющихся в деле доказательств, а также к квалификации правоотношений сторон, «местнический» принцип осуществления правосудия;
– разрешение судом дела на основании нормативного акта, впоследствии признанного неконституционным (когда суд либо не усмотрел при его применении противоречия с Конституцией, либо вообще не задавался этим вопросом в силу сложившегося стереотипа мышления судей, воспитывавшихся в духе подчинения только закону, когда Конституция не воспринималась как непосредственно действующее право) [1, с. 2];
– привычка российских судей к ожиданию принятия конкретизирующих Конституцию законодательных актов, которые бы подробно расписали, когда и как ее применять [4, с. 4];
– инерция старых взглядов и подходов судей при осуществлении ими судебной деятельности в условиях обновленного законодательства; приобретение судьей свойства «профессиональной беспристрастное; пристрастность суда в формах предубежденности или связи суда с одной из сторон; влияние «эффекта психической установки» на принятие окончательных решений судьями [7, с. 472];
– субъективные взгляды, симпатии и антипатий судьи, а также влияние господствующих в определенной местности воззрений и предрассудков [2, с. 33–34] и т. п.
Принимая во внимание вышеуказанные причины, можно сделать вывод о необходимости решения проблемы вынесения судами ошибочных приговоров. Пути решения видятся в следующем:
- Введение обратного проводимому в данный момент процессу сокращения сотрудников органов правоохранительной системы, увеличение количества кадров. Данная мера позволит снизить нагрузку на сотрудников органов следствия и дознания, поможет за счет вновь выделенного времени тщательней изучать ими обстоятельства расследуемых дел.
- Увеличение количества обучающихся по специальности «Судейское дело» в профильных образовательных учреждениях, путем открытия дополнительных мест. Дефицит кадров в судейском корпусе должен восполняться целенаправленно, за счет профильных ВУЗов, в которых кандидаты на должность судьи смогут получить качественное и квалифицированное образование. Приток судей-специалистов также снизит нагрузку на действующих судей, позволит в полной мере исследовать все нюансы рассматриваемого дела, и как следствие, минимизировать фактор вынесения ошибочного приговора.
Вышеуказанные способы разрешения проблемы судебных ошибок ввиду необходимости больших бюджетных расходов на практике видятся труднореализуемыми. Однако, формирование такой позиции руководством профильных ведомств и Министерства юстиции может в значительной мере сдвинуть процесс с мертвой точки, ведь справедливая судебная и правоохранительная система, выносящая решения на основе закона с учетом всех обстоятельств дела — залог и символ демократического, по-настоящему цивилизованного и правового государства, к чему обязана стремится современная Россия.
Литература:
- Анишина В. И. Применение постановлений Конституционного Суда РФ судами общей юрисдикции // Российская юстиция. 1999. № 11. С. 2.
- Васьковский Е. В. Учебник гражданского процесса. Изд. 2-е, перераб. М., 1917. С. 33–34.
- Владимир Путин — Против смертной казни. // http://www.pravda.ru/politics/11–07–2001/836109–0/
- Грось Л. Акты Конституционного Суда РФ и право на судебную защиту // Российская юстиция. 1998. № 11. С. 4.
- Завидов Б. О некоторых противоречиях арбитражного процессуального законодательства // Хозяйство и право. 1997. № 9. С. 124.
- Маркин: со стороны всегда кажется, что громких дел мало. // http://sobesednik.ru/rassledovanie/20150120-markin-so-storony-vsegda-kazhetsya-chto-malo-gromkih-del
- Романов В. В. Юридическая психология: Учебник. М., 2009. С. 472.
- Устюгов А. А. Судебные ошибки: проблемы, интерпретации, понятия // Молодой ученый. — 2013. — № 5. С.556–558
Основные термины (генерируются автоматически): причина возникновения, дело, дефицит кадров, ошибка, правоохранительная система, должность судьи, ошибочный приговор, полная мера, приговор, судейский корпус.
судебная ошибка, обвинительный приговор, дефицит кадров
Похожие статьи
Частное определение суда как способ предупреждения судебных…
Органы судейского сообщества довольно жестко реагируют на нарушения процессуального законодательства, допускаемого судьями при отправлении правосудия по гражданским делам.
Проблема судебных ошибок: причины возникновения и пути решения.
Судебные ошибки: проблемы, интерпретации, понятия
В качестве причин судебных ошибок в литературе обычно указываются следующие обстоятельства
сложность административных дел, отсутствие необходимой специализация судей по административным делам; обновление судейского корпуса и отсутствие у молодых…
Проблема реализации принципа независимости судей
На это решение никто не должен оказывать влияние. Однако так ли это на самом деле? Конечно, по причине проведения нашим государством активной борьбы с коррупцией, желающих подкупить судью и желающих получить взятку среди судейского аппарата…
Еще раз о проблеме правовой культуры судейского корпуса…
Данная статья посвящена проблеме правовой культуры российского судейского корпуса.
Одновременно, одной из причин правового нигилизма российского общества является подрыв доверия народа к судебной системе и низкое качество самих законов.
Ключевые судебные реформы 2008–2015 годов и их оценка
При вынесении ошибочного решения, апелляция не может отправить дело на новое
Таким образом, в полной мере упрощенный порядок был реализован в арбитражном процессе.
Гайдидей, Ю. М. Судебная система России: ошибки реформирования [Текст] / Ю. М…
Некоторые проблемы квалификации превышения должностных…
Ключевые слова: должностные преступления, превышение должностных полномочий, правоохранительная деятельность, органы внутренних дел
Такие примеры тоже известны: в частности, приговором суда осужден за превышение должностных полномочий сотрудник…
Проблемы судебного контроля по уголовным делам
По причине недостаточной четкости в законодательных предписаниях по судейскому
Система судебного контроля регламентирована главой 34 УПК РФ о предварительном слушании, главами 18, 46, 47 УПК РФ об исполнении приговоров процессуальных решений [2].
Проблемы апелляционного судопроизводства в РФ в свете…
Профессор, зав. кафедрой уголовного-процесса МГЮУ имени О. Е. Кутафина, Л.А. Воскобитова считает, что данная система оснований отмены и изменения приговоров не в полной мере обеспечивает решение тех новых задач…
Частное определение суда как способ предупреждения судебных…
Органы судейского сообщества довольно жестко реагируют на нарушения процессуального законодательства, допускаемого судьями при отправлении правосудия по гражданским делам.
Проблема судебных ошибок: причины возникновения и пути решения.
Судебные ошибки: проблемы, интерпретации, понятия
В качестве причин судебных ошибок в литературе обычно указываются следующие обстоятельства
сложность административных дел, отсутствие необходимой специализация судей по административным делам; обновление судейского корпуса и отсутствие у молодых…
Проблема реализации принципа независимости судей
На это решение никто не должен оказывать влияние. Однако так ли это на самом деле? Конечно, по причине проведения нашим государством активной борьбы с коррупцией, желающих подкупить судью и желающих получить взятку среди судейского аппарата…
Еще раз о проблеме правовой культуры судейского корпуса…
Данная статья посвящена проблеме правовой культуры российского судейского корпуса.
Одновременно, одной из причин правового нигилизма российского общества является подрыв доверия народа к судебной системе и низкое качество самих законов.
Ключевые судебные реформы 2008–2015 годов и их оценка
При вынесении ошибочного решения, апелляция не может отправить дело на новое
Таким образом, в полной мере упрощенный порядок был реализован в арбитражном процессе.
Гайдидей, Ю. М. Судебная система России: ошибки реформирования [Текст] / Ю. М…
Некоторые проблемы квалификации превышения должностных…
Ключевые слова: должностные преступления, превышение должностных полномочий, правоохранительная деятельность, органы внутренних дел
Такие примеры тоже известны: в частности, приговором суда осужден за превышение должностных полномочий сотрудник…
Проблемы судебного контроля по уголовным делам
По причине недостаточной четкости в законодательных предписаниях по судейскому
Система судебного контроля регламентирована главой 34 УПК РФ о предварительном слушании, главами 18, 46, 47 УПК РФ об исполнении приговоров процессуальных решений [2].
Проблемы апелляционного судопроизводства в РФ в свете…
Профессор, зав. кафедрой уголовного-процесса МГЮУ имени О. Е. Кутафина, Л.А. Воскобитова считает, что данная система оснований отмены и изменения приговоров не в полной мере обеспечивает решение тех новых задач…
Похожие статьи
Частное определение суда как способ предупреждения судебных…
Органы судейского сообщества довольно жестко реагируют на нарушения процессуального законодательства, допускаемого судьями при отправлении правосудия по гражданским делам.
Проблема судебных ошибок: причины возникновения и пути решения.
Судебные ошибки: проблемы, интерпретации, понятия
В качестве причин судебных ошибок в литературе обычно указываются следующие обстоятельства
сложность административных дел, отсутствие необходимой специализация судей по административным делам; обновление судейского корпуса и отсутствие у молодых…
Проблема реализации принципа независимости судей
На это решение никто не должен оказывать влияние. Однако так ли это на самом деле? Конечно, по причине проведения нашим государством активной борьбы с коррупцией, желающих подкупить судью и желающих получить взятку среди судейского аппарата…
Еще раз о проблеме правовой культуры судейского корпуса…
Данная статья посвящена проблеме правовой культуры российского судейского корпуса.
Одновременно, одной из причин правового нигилизма российского общества является подрыв доверия народа к судебной системе и низкое качество самих законов.
Ключевые судебные реформы 2008–2015 годов и их оценка
При вынесении ошибочного решения, апелляция не может отправить дело на новое
Таким образом, в полной мере упрощенный порядок был реализован в арбитражном процессе.
Гайдидей, Ю. М. Судебная система России: ошибки реформирования [Текст] / Ю. М…
Некоторые проблемы квалификации превышения должностных…
Ключевые слова: должностные преступления, превышение должностных полномочий, правоохранительная деятельность, органы внутренних дел
Такие примеры тоже известны: в частности, приговором суда осужден за превышение должностных полномочий сотрудник…
Проблемы судебного контроля по уголовным делам
По причине недостаточной четкости в законодательных предписаниях по судейскому
Система судебного контроля регламентирована главой 34 УПК РФ о предварительном слушании, главами 18, 46, 47 УПК РФ об исполнении приговоров процессуальных решений [2].
Проблемы апелляционного судопроизводства в РФ в свете…
Профессор, зав. кафедрой уголовного-процесса МГЮУ имени О. Е. Кутафина, Л.А. Воскобитова считает, что данная система оснований отмены и изменения приговоров не в полной мере обеспечивает решение тех новых задач…
Частное определение суда как способ предупреждения судебных…
Органы судейского сообщества довольно жестко реагируют на нарушения процессуального законодательства, допускаемого судьями при отправлении правосудия по гражданским делам.
Проблема судебных ошибок: причины возникновения и пути решения.
Судебные ошибки: проблемы, интерпретации, понятия
В качестве причин судебных ошибок в литературе обычно указываются следующие обстоятельства
сложность административных дел, отсутствие необходимой специализация судей по административным делам; обновление судейского корпуса и отсутствие у молодых…
Проблема реализации принципа независимости судей
На это решение никто не должен оказывать влияние. Однако так ли это на самом деле? Конечно, по причине проведения нашим государством активной борьбы с коррупцией, желающих подкупить судью и желающих получить взятку среди судейского аппарата…
Еще раз о проблеме правовой культуры судейского корпуса…
Данная статья посвящена проблеме правовой культуры российского судейского корпуса.
Одновременно, одной из причин правового нигилизма российского общества является подрыв доверия народа к судебной системе и низкое качество самих законов.
Ключевые судебные реформы 2008–2015 годов и их оценка
При вынесении ошибочного решения, апелляция не может отправить дело на новое
Таким образом, в полной мере упрощенный порядок был реализован в арбитражном процессе.
Гайдидей, Ю. М. Судебная система России: ошибки реформирования [Текст] / Ю. М…
Некоторые проблемы квалификации превышения должностных…
Ключевые слова: должностные преступления, превышение должностных полномочий, правоохранительная деятельность, органы внутренних дел
Такие примеры тоже известны: в частности, приговором суда осужден за превышение должностных полномочий сотрудник…
Проблемы судебного контроля по уголовным делам
По причине недостаточной четкости в законодательных предписаниях по судейскому
Система судебного контроля регламентирована главой 34 УПК РФ о предварительном слушании, главами 18, 46, 47 УПК РФ об исполнении приговоров процессуальных решений [2].
Проблемы апелляционного судопроизводства в РФ в свете…
Профессор, зав. кафедрой уголовного-процесса МГЮУ имени О. Е. Кутафина, Л.А. Воскобитова считает, что данная система оснований отмены и изменения приговоров не в полной мере обеспечивает решение тех новых задач…
Хрестоматия по юридической психологии. Особенная часть.
ПСИХОЛОГИЯ СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В.
Юридическая психология.
Харьков, 2002. Стр. 141-149.
Глава 7. Психологические аспекты уголовного судопроизводства.
7.4. Психологические аспекты правовой оценки преступного деяния и вынесения приговора
После произнесения подсудимым последнего слова судейская коллегия удаляется в совещательную комнату для осуществления последней стадии судебного процесса – вынесения приговора (решения, определения) суда. Кроме судей и народных заседателей в совещательную комнату не допускается никто из других участников уголовного процесса, чтобы исключить какое бы то ни было постороннее вмешательство в вынесение приговора. Суммируя окончательно все рассмотренные в ходе судебных прений доказательства, мнения обвинения и защиты, судья должен принять решение о виновности или невиновности подсудимого и определить меру наказания, т.е. реализовать основную функцию правосудия.
С процессуальной стороны вынесение приговора является актом строго нормативным и обусловленным рядом формальных требований в целях его обоснованности и законности:
– решение должно приниматься судьями только на основании фактов и доказательств, установленных в судебном разбирательстве;
– председательствующий должен четко формулировать каждый вопрос, чтобы на него был получен категорический ответ (виновен, невиновен; да, нет);
– все члены судебной коллегии равны в праве высказываний по любым вопросам, возникающим при вынесении приговора;
– высказаться обязаны все участники совещания;
– судьи имеют право на выражение особого мнения, если они не согласны с мнением большинства;
– обязателен отвод судьи, если есть данные о его заинтересованности в деле;
– должна сохраняться тайна судебного совещания, а высказанные на нем суждения не должны оглашаться;
– все сомнения, которые не представляется возможным устранить, толкуются в пользу подсудимого;
– признание подсудимым своей вины может быть положено в основу обвинительного приговора только при подтверждении этого признания совокупностью других объективных доказательств, установленных в судебном разбирательстве;
– если в преступлении обвиняется несколько подсудимых, то суд принимает отдельное решение по каждому из них (ст.ст.323-325 УПК Украины).
Соблюдение этих требований обусловливает обоснованность и законность вынесенного приговора и должно в максимальной степени гарантировать избежание судебных ошибок, от которых зависит судьба человека. Однако даже при соблюдении всех нормативных требований судебные ошибки неизбежны в большей или меньшей степени. Если решение судей единогласно, то это повышает вероятность его безошибочности и уверенность членов коллегии в его правильности и справедливости. Но это также не гарантирует от возможных ошибок. Известно немало случаев в истории судебной практики, когда единогласно принятые решения оказывались ошибочными и после исполнения смертного приговора обнаруживались истинные преступники.
Эти обстоятельства обычно связывают с «человеческим фактором», в роли которого выступают индивидуально-психологические свойства лиц, принимающих решение, и социально-психологические закономерности их коллективного взаимодействия. Так, требуемая законом независимость волеизъявления судей не всегда бывает фактически реализуема в связи с психологическими особенностями межличностного взаимодействия членов судебной коллегии, которая представляет собою формальную профессиональную группу и которая оказывает значительное воздействие на каждого из ее членов.
Большую роль в этом играет профессиональный опыт членов судейской коллегии, присущая им психологическая культура тактичного высказывания своего мнения, ведения диспута. Важны также индивидуально-типологические и характерологические особенности каждого из членов этой группы: уверенность, убежденность, принципиальность, степень конформизма – внушаемости, склонности уступать мнению большинства. Важны и характерологические черты председательствующего, который является фактическим лидером и может по-разному проявлять себя в конкретных ситуациях: сохранять устойчивую независимую позицию, стараться влиять на мнение коллег, проявлять конформизм под их коллективным влиянием.
В характере выносимого приговора отражаются как объективные требования закона, так и субъективные убеждения судьи. Убеждения судьи в отношении изучаемого деяния и личности подсудимого формируются в процессе изучения материалов предварительного следствия, судебного разбирательства, мнений защиты и обвинения. Убеждение объединяет в себе интеллектуальный, эмоциональный и моторно-исполнительский компоненты. Интеллектуальный компонент убеждения отражает результаты познавательной деятельности судьи – восприятия и анализа фактов и доказательств по делу, их соотнесение с нормами права. Он отражает также уровень профессиональной квалификации судьи, его юридического мышления и опыта.
Эмоциональный компонент убеждения судьи отражает его эмоциональные переживания и нравственную оценку изучаемого уголовного поступка, а также личности подсудимого и потерпевшего. Исполнительский компонент убеждения побуждает судью с уверенностью в правильности совершаемого действия выносить заключительное решение – приговор и определение меры наказания подсудимого. Убеждение побуждает к сознательному практическому действию, с пониманием его социальной и личностной значимости. И все-таки, внутренняя убежденность судьи является субъективно-индивидуальной, поскольку в ней может быть различным содержание и соотношение входящих в нее компонентов, преобладание эмоционального над интеллектуальным, импульсивность действий и т.п. Это обстоятельство обусловливает различия в принятии заключительного решения по делу разными судьями. Например, согласно ст.121 УК Украины наказание за умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения предусматривается наказание от 5 до 8 лет. Определяя конкретный срок отбывания наказания, судья исходит как из требований закона, так и из собственных убеждений, т.е. психологического фактора, существенно влияющего на правильность или ошибочность избрания меры наказания.
Сходным с убеждением, но специфическим фактором, влияющим на решение судьи, является психологическая установка. Установка относится к уровню неосознанной мотивации и часто предшествует формированию убеждений. Если установка переходит на уровень сознательной самооценки входящих в нее стимулов, то она преобразуется в убеждение. В иных случаях она остается на уровне непроизвольной саморегуляции деятельности. Установки формируются под влиянием широкого круга социальных факторов, действующих на личность в онтогенезе. Установка побуждает человека адаптироваться и усваивать те критерии оценки других людей и формы поведения, которые привычны в данном социуме. Установка обусловливает общесоциальную и профессиональную апперцепцию юриста, т.е. специфическое личностное восприятие специалистом различных аспектов судебной деятельности.
Так, В.В.Романов, ссылаясь на исследования Т.Г.Морщаковой, рассматривает влияние установки на появление судебных ошибок. Согласно приведенным данным, не менее 50% случаев отмены приговоров как не отвечающих требованиям закона, связаны с эффектом психологической установки на принятие судьями приговоров по уголовным делам. В частности, в силу закона апперцепции, установка существенно влияет на направленность интеллектуальных процессов судьи, определяя готовность к определенной форме реагирования на те или иные факты в условиях судебного разбирательства и вынесения приговора. Установка активизирует интеллектуальные процессы юриста, избирательно направляя их на познание и трактовку определенных фактов. При этом важен характер установки: насколько в ней представлен профессиональный опыт, привычка объективно подходить к оценке фактов и доказательств. В этой связи установка может оказывать как положительное влияние на результат заключительного решения судьи, так и способствовать его ошибочности. Судья, имеющий в своей памяти глубокий профессиональный опыт, умеет адекватно и оперативно применить его к решению знакомых судебных задач. Но установка может оказать и негативное влияние в тех случаях, когда судья склонен некритично воспринимать новую ситуацию и решать ее по усвоенному ранее стандарту.
В подобных случаях возникает желание принимать решение в связи с субъективной значимостью предыдущих решений по делу, в частности, с предшествующими выводами следствия. Такая установка, во-первых, подсознательно влияет на ведение судьей судебного разбирательства, суживая пределы изучения всех обстоятельств дела и игнорируя некоторые важные для дела детали; во-вторых, такая установка может привести к формированию окончательного убеждения судьи задолго до перехода в совещательную комнату для вынесения приговора. Такие установки могут иметь место и у следователей, обусловливая эффект «субъективной недоступности» при обнаружении и оценке вещественных доказательств. Таким образом, установка судьи полностью опирается на результаты предварительного следствия, приводит к повторению возможной ошибки в постановлении следователя.
Снятие неадекватных установок в профессиональной деятельности судьи требует профессионализма, критичности, рефлексии, принципиальности, перевода установок в осознанные убеждения, направляющие юриста к целенаправленной профессиональной деятельности и решению судебных задач на основе принципов законности и справедливости.
На формирование установок и убеждений юриста существенно влияют социальные факторы, стимулирующие явления конформизма. На уровне установки наблюдается стихийный непроизвольный конформизм, когда судья привыкает действовать с оглядкой на «вышестоящие инстанции», остерегаясь не судебной ошибки, а неблагоприятных для себя личных последствий. На уровне убеждения наблюдается сознательный конформизм, когда судья произвольно строит свою деятельность с ориентацией не на поиск истины, а на давление свыше, на общественное мнение, на средства массовой информации, которые зачастую неправильно ориентируют общественность, исходя из своих социальных и политических задач.
Только профессиональная направленность на осуществление правосудия и принципиальность судьи могут удержать судью от подобных проявлений конформизма и связанных с ним проявлений профессиональной деформации. Приговор, вынесенный на совещании судей, является единственным процессуальным актом, признающим подсудимого виновным или невиновным в совершении преступления и определяющим ему меру уголовного наказания или оправдание.
Таким образом, приговор выполняет две основных функции правосудия: установление вины и определение справедливого наказания, адекватного характеру совершенного деяния.
Понятие преступной вины является достаточно сложным в теории юриспруденции и может трактоваться по-разному. В отечественном законодательстве господствует положение, согласно которому вина состоит в умышленном (преднамеренном) или неосторожном (непроизвольном) противоправном деянии вменяемого субъекта. Существует и несколько иная точка зрения, согласно которой помимо умысла или неосторожности вина включает в себя еще и нравственную оценку, т.е. признание проявления в содеянном злой воли преступника. На этой позиции базируется суд, призванный быть гуманным («милостивым»). Правильная позиция должна быть компромиссной, т.е. объединять обе точки зрения. Признать преступником можно лишь того человека, который преднамеренно совершил противоправное деяние, проявив свою порочную, злую волю. Если же субъект совершил противоправное действие под давлением непреодолимых обстоятельств, то он вправе рассчитывать на милость правосудия. Однако и в этом случае необходимо тщательное изучение всех обстоятельств происшествия и их соотнесение с качествами личности обвиняемого. Только при этих условиях возможно установить справедливую меру уголовно-правового наказания или оправдать человека.
При определении личностных свойств обвиняемого судья должен различать свойства, может быть и неприятные при внешнем восприятии обвиняемого (например, угрюмость, замкнутость, нежелание общаться, неприятные черты внешнего облика), но, как правило, не играющие роли в совершении преступного деяния, от свойств характерологических, которые могут быть непосредственно связаны с преступной направленностью индивида. Это, как правило, его нравственные черты, определяющие социальную направленность его поведения: жизненные цели, взгляды и убеждения, отношение к нормам морали. Антиобщественный, негуманный характер установок личности, цинизм, фанатизм, жестокость, стяжательство и иные индивидуально-психологические свойства личности являются тем субъективным внутренним фактором, через который преломляются объективные обстоятельства, в которых осуществляется противоправное действие.
Мы должны установить все объективно сложившиеся условия, которые в совокупности могли повлиять на формирование личности в онтогенезе и характер различных семейно-бытовых, производственных и иных конфликтов, в которых оказался обвиняемый. Однако суд должен установить, мог ли субъект активно противостоять грозящей ему ситуации. В одном случае человек действует импульсивно, противодействуя явному насилию и совершает противоправное действие в условиях превышения необходимой самообороны (например, сталкивает насильника с моста в реку). Однако существует множество жизненных ситуаций, в которых субъект способен сделать нравственный выбор. Критерии такого выбора чрезвычайно важны для суда в оценке личности обвиняемого. Например, обвиняемый отрицает свою вину, считая себя жертвой тяжелых социальных обстоятельств: он не имел работы и возможности содержать семью, пошел в наемники, чтобы убивать других людей, не причинивших ему никакого зла. В нем, в интериоризованном плане, уже существовала программа преступного поведения, которая легко реализовалась в сложившихся объективных обстоятельствах. Человек не является пассивным объектом влияния среды, поскольку он имеет возможность выбора. Поэтому далеко не все объективные социальные обстоятельства оцениваются судом как смягчающие вину, кроме тех, которые предусмотрены законом. В основу определения вины и меры наказания суд определяет характер, тяжесть и социальную опасность совершенных противоправных действий; оценивает способ совершения преступления, степень его осуществления (стадия подготовки, покушение, окончательное осуществление), роль обвиняемого в структуре группового преступления, наличие рецидива и т.п.
Большую помощь в принятии решения и определении справедливой меры наказания может оказать судьям заключение судебно-психологической экспертизы, однако выводы экспертизы должны приниматься во внимание только при подтверждении их совокупностью всех других обстоятельств дела. Например, суд не учел при вынесении приговора судебно-психологической экспертизы по делу К., обвинявшегося в умышленном убийстве и мошенничестве. Эксперт утверждал наличие у обвиняемого состояния физиологического аффекта, хотя временные характеристики действия, количество и характер телесных повреждений на теле потерпевшего, мотивация действий обвиняемого не соответствовали признакам аффекта. Сомнение у суда вызвало также полученное на основе стандартных тестов мнение эксперта о честности, скромности и правдивости подсудимого, что не подтверждалось материалами судебного разбирательства.
Отягчающим вину подсудимого обстоятельством суд считает повторность, систематичность совершения преступлений, которая свидетельствует об устойчивости криминальной направленности обвиняемого и которая должна быть учтена при определении справедливой меры наказания.
Обстоятельством, которое может смягчить меру наказания, служит чистосердечное публичное признание своей вины. Однако это должны быть не те вынужденные признания, которые получали судьи церковной инквизиции в пыточных подвалах или соратники Берии в своих казематах. Надо определить искренность признания вины, чистосердечность переживаемого раскаяния в содеянном, готовность искупить свою вину, которые высказывает подсудимый в своем последнем слове. Осознание своей вины и раскаяние оказывается той кульминационной точкой эмоционального состояния, на уровне которой обозначается перестройка мотивации и готовность подсудимого к ресоциализации.
Структура выносимого приговора суда должна соответствовать требованиям закона и обычно включает в себя три части: вводную, мотивировочную и резолютивную (ст.ст. 332-335 УПК Украины). Приговор составляется одним из судей и подписывается всеми участвующими в совещании судьями. Особое мнение должно излагаться отдельно в письменном виде. Обоснование судебного решения должно содержать краткое изложение криминального события, анализ доказательств и доводы, на основании которых суд признал или не признал определенные доказательства. Решение о наличии вины и определение меры наказания должно быть выражено четко и категорично, чтобы при исполнении приговора не возникало никаких сомнений. Суд должен предусмотреть не только меру наказания, но и условия его отбывания в ИТУ определенного режима.
Вынесение приговора должно реализовывать не только карательные, но и воспитательные функции правосудия, поэтому суд должен получать информацию о реализации приговора, о воспитательном эффекте пребывания осужденного в исправительно-трудовом учреждении, а также о поведении условно осужденных. Характер поведения осужденного в местах отбывания наказания, его готовность к исправлению учитывается при решении о досрочном или условно-досрочном освобождении осужденного.
НАВЕРХ
Не так давно меня пригласили выступить на Ковалевских чтениях в Екатеринбурге. Это мероприятие в основном посвящено проблемам уголовного права, но была и общая панель, посвященная судебным ошибкам. Тема моего выступления была такая: почему судьи арбитражных судов допускают ошибки при разрешении дел.
Ниже — текст моего выступления, переданный очень близко к тому, что я говорил. Автор текста — Екатерина Стихина
За приглашение участвовать в таком интересном мероприятии — большое спасибо Denis Puchkov.
* * *
— Семь лет своей жизни я провел в судебной системе, работал в аппарате Высшего арбитражного суда, не понаслышке знаю судейский корпус и вправе рассуждать о причинах судебных ошибок, которые допускают в арбитражных судах при рассмотрении гражданских споров. Для себя я выделяю пять ключевых причин появления судебных ошибок, которые потом обсуждаются в вышестоящих инстанциях.
Первая: к сожалению, правила Арбитражного процессуального кодекса требуют, чтобы суд огласил резолютивную часть судебного акта сразу после окончания слушаний. То есть стороны выступили, суд удаляется в совещательную комнату, потом выходит и провозглашает резолютивку. После этого суд должен в течение некоторого времени — которое установлено кодексом — написать полный текст судебного акта. Раньше я довольно часто слышал от коллег-судей, что дел у них очень много, а времени мало. За день, например, нужно рассмотреть 15 больших сложных споров.
Я успеваю полистать дело, у меня сложилось какое-то первое впечатление о нем, потом послушал стороны, удалился в совещательную сторону, вынес решение, огласил, — говорили судьи. — Начал отписывать решение, погрузился подробнее в детали, изучил документы… Черт! Я неправильно решил дело! Провозгласил неверное решение! Надо было отказывать в иске, а я его удовлетворил.
Можно ли упрекать судью в такой ошибке? Я думаю, нет. Это общий порок того, как устроено рассмотрение гражданских споров в России. Дел слишком много, судей мало, нагрузка на них чересчур большая. Кроме того, к огромному сожалению, процессуальные кодексы устанавливают краткие и неоправданные сроки для рассмотрения дел, в течение которых суд должен вынести решение. Это вообще стилистическая особенность именно российского гражданского процесса — устанавливать сроки для рассмотрения дел. А ведь хорошее правосудие не может быть быстрым. И уж тем более хорошее правосудие не может быть поставлено в жесткие рамки процессуальных сроков для рассмотрения дел.
То есть первую проблему можно эффективно решить, отказавшись от принципа обязательности оглашения судебного акта незамедлительно после окончания слушаний. Судье нужно дать время подумать, почитать, походить, возможно, пообсуждать с коллегами те правовые вопросы, над которыми он рассуждает.
Вторая причина ошибок связана с тем, что многие судьи, которые рассматривают гражданские дела, не всегда осознают отличия стандартов доказывания, которые есть в гражданском процессе и в уголовном. Так, уголовный процесс основан на стандарте доказывания «Вне всяких разумных сомнений». То есть не должно остаться никаких сомнений в том, что подсудимый виновен.
В гражданском процессе стандарт доказывания совсем другой — «Баланс вероятности». То есть скорее был факт, чем его скорее не было. Скорее да, чем скорее нет. Скорее директор действительно подписал этот договор, чем скорее не подписывал. Скорее товар был передан, чем не был.
Мы видим огромную проблему в том, что судьи, которые разбирают гражданские дела, допускают смешение стандартов доказывания. И в первую очередь — в делах о взыскании убытков. Наша судебная практика на протяжении полутора десятков лет пришла к тому, что стандарт доказывания в делах о взыскании убытков был, по сути, задран до того же стандарта, что используется в уголовных делах. Итог очень простой: истец никогда не может доказать убытки. И получается, что самый главный иск в арбитражном суде, иск кредитора о возмещении причиненных ему убытков, — практически проигрышная история.
Если посмотреть судебную статистику по спорам о взыскании убытков, особенно на их удовлетворяемость, она смехотворна! Такого не может быть в нормальном развитом правопорядке.
Третья причина судебных ошибок — это относительно невысокая культура структурирования судебных текстов. Как устроено решение по гражданскому делу сегодня в России: это, как правило, сплошной текст. В лучшем случае мы увидим разделение на абзацы, но никаких частей типа «позиция истца», «позиция ответчика», «позиция суда».
Если мы возьмем, например, акты вышестоящих судебных инстанций, то тоже не увидим деления на блоки: позиция нижестоящего суда; причины, по которым вышестоящий суд не согласился с нижестоящим. Суды просто вываливают на нас сплошной текст на 10-15-20-30 страниц, в котором нет элементарной культуры письменной речи — разделения на смысловые блоки!
А когда ты пишешь такой текст, то ошибиться намного легче. Проще пропустить какие-то аргументы, которые были выдвинуты стороной, замолчать их. И наоборот: если в тексте вы указываете: «У истца было пять аргументов», и дальше, как судья, анализируете: «Первый не подходит потому-то, второй отклоняется по такой причине», то вероятность ошибки намного меньше.
Мы до сих пор не научились писать судебные акты правильно и красиво, и это, в том числе, порождает то, что судьи невнимательно относятся к аргументам сторон, просто иногда замалчивают их, и поэтому допускают ошибки.
Четвертая причина тоже связана с культурой письменной речи, а именно, с культурой написания судебных актов с содержательной стороны.
К огромному сожалению, суды боятся открытых рассуждений. Очень редко когда судья имеет смелость написать: «Свидетель такой-то сказал то-то, но я ему не доверяю, потому что он нервничал, у него бегали глаза. Поэтому те показания, что он дал, скорее всего, недостоверны». Наши судьи не пишут судебные акты от первого лица — я.
Такая деперсонализация, деидентификация судебных актов просто приводит к тому, что судья отстраняется от результата своего творчества, своего детища, и не так тщательно относится к тому, как этот акт будет выглядеть, как будут воспринимать его читатели. (Например, я когда пишу решения по делам, где я выступаю в качестве арбитра, я всегда пишу текст от первого лица «я полагаю», «мне представляется», «меня не убедило» и т.д.).
Давайте возьмем средний акт по гражданскому делу! Что это такое? Это изложение обстоятельств дела, дальше вы увидите 10-15 абзацев, где будут просто процитированы нормы Гражданского кодекса. Например, «в соответствии со статьей 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом». Как будто мы не знаем, что написано в статье 309 ГК! Зачем это писать? Какой смысл в простом цитировании нормативных актов?
И мы видим пулеметную очередь из абзацев-цитат законов и дальше: «На основании изложенного суд решил». А где логика? Где рассуждения? Как мы поймем, что суд действительно вывел из неких законоположений какое-то умозаключение?
Есть исключения из этого правила, конечно. Но, к сожалению, подавляющее большинство текстов, которые сегодня выносят суды по гражданским спорам, на мой взгляд, не очень убедительны.
И последняя причина ошибок, которые могу допускать судьи, кроется в принципе рекрутинга судейского корпуса.
Не секрет, что основной источник пополнения штата судей в арбитражных судах — это помощники, бывшие секретари судебных заседаний. И, по большому счету, карьера судьи такова: секретарь — помощник — судья. При рекрутинге судей очень опасливо относятся к юристам, которые пришли извне, не работавшим в судебной системе. Мне, например, неизвестны случаи, когда судьями арбитражных судов становились люди, имеющие за плечами практический опыт работы юрисконсультами или адвокатами.
Я не хочу сказать, что помощники судей как судьи хуже, чем бывшие адвокаты. Я хочу просто подчеркнуть: когда карьерная лестница, по которой человек пришел к должности судьи и надел мантию, не содержит в себе опыта практической юриспруденции, такому судье при рассмотрении коммерческих споров будет сложно. Ведь он не знает коммерческой жизни.
При том что в спорах, которые рассматриваются в арбитражных судах, поднимаются сложнейшие вопросы, связанные с банкротством, с привлечением к субсидиарной ответственности лиц, которые довели компанию до несостоятельности. С оспариванием сделок, с привлечением к ответственности директоров, которые действуют во вред интересам компаний. На мой взгляд, крайне тяжело разрешать такие споры правильно, если у тебя нет практического бэкграунда.
Если ты не знаешь бизнес-жизнь изнутри, ее изнанку, не имеешь представления, принято ли в бизнесе делать то, что делал директор, можно ли совершать такие сделки в тех условиях, в каких находился он, как ты можешь выносить суждение о том, действительно ли глава компании действовал против ее интересов?!
Поэтому, к огромному сожалению, ошибки в делах, связанных с непременным наличием бизнес-опыта у того, кто рассматривает спор, завязаны на технологию формирования судейского корпуса. А она сегодня является в России доминирующей.
Материал написан на основе выступления на XVI Международной научно-практической конференции «Ковалевские чтения». http://ekb.dk.ru/news/pyat-prichin-strashnyh-oshibok-sudey-v-arbitrazhah-pochemu-vy-nikogda-ne-dokazhete-svoi-ubytki-237118065?fbclid=IwAR2vVi5ZT-g0YXhSXDN5K7jPbnW6BZvS6MnjTZKkNsk3ihRkXss6xMqFMZY
Психологические основы предупреждения судебных ошибок
Жегалов Е.А., судья Первомайского районного суда г. Новосибирска.
Служба правосудию требует полной, беззаветной отдачи умственных и психологических сил, что, безусловно, и отличает работу председательствующих судей. Однако всем известно, что имеют место судебные ошибки, для исправления которых законом предусмотрены вторая и иные судебные инстанции.
Требования закона о быстром и правильном рассмотрении дела ставят очевидный вопрос: как суду первой инстанции минимизировать, предупредить, избежать возможных судебных ошибок и рассмотреть дело в разумный срок? Для ответа на этот вопрос недостаточно владеть только юридической материей по той или иной категории дел, необходимо иметь представление о психологических закономерностях судопроизводства.
К сожалению, эта сфера мало исследуется и даже представляет собой некое табу. Порой судьи в печати рисуются как подобия божеств, способные на все и лишенные человеческих слабостей, а в негативном контексте подаются как субъекты, зависимые от наиболее влиятельной стороны. Полагаем, что и то, и другое недопустимо. Кроме реальных гарантий независимости судей следует знать и задумываться над предупреждением судебных ошибок, имеющих психологическую основу, влекущих существенные юридические последствия.
Судьи такие же люди, как и все, и живут в одной социальной системе с окружающим обществом, а общество имеет такой суд, какой достойно иметь.
Полагаем, любой судья знает, что на практике «только ленивая сторона не пытается повлиять на председательствующего или состав суда». Это воздействие может быть совершенно недопустимым или законно и этически приемлемым. Например, если это допускают правила внутреннего распорядка работы суда — неоднократное появление на приеме у судьи.
Ежедневно и ежечасно судьи решают задачу, как преодолеть это воздействие, не допустить в этом перегиба, ведущего к необъективности, как адекватно противостоять собственному предубеждению, ошибкам и заблуждениям, общественному мнению, совету вышестоящего коллеги, корректному или некорректному пожеланию влиятельного субъекта.
При этом судья вынужден действовать в соответствии со временем. Судебный акт не должен быть отражением ни дня вчерашнего, ни дня будущего. И мышление вчерашнего дня, и мышление дня будущего, опережающее свое время, могут быть отвергнуты последующей инстанцией как неверные и, будучи по существу правильными и справедливыми, могут быть сочтены судебной ошибкой.
Читая постановления последующих судебных инстанций, любой субъект часто испытывает удивление в связи с тем, почему суд первой инстанции допустил ошибку, неправильно оценил доказательства, истолковал или применил закон, не заметил очевидного. Во многом понять этот феномен можно, ознакомившись с теорией бессознательной психики.
Несомненно, отправление правосудия — глубоко сознательная деятельность. Сознание же — сравнительно недавнее приобретение эволюции живых организмов. До этого живое обходилось без сознания, только рефлексами и физиологическими программами (пчелы, муравьи, птицы и т.д.). Поэтому с начала эволюции живого в каждой его особи генетически сформировались огромные ресурсы бессознательной психики. У людей и высших животных только небольшой верхний пласт психики составляет само сознание. Его особенность — осознавать только то, что содержится в нем самом. Содержание же сознания человека во многом определяется работой цензора — предсознательной психики, прослойки между бессознательной и сознательной частью психики, которая вытесняет, удаляет в бессознательное все, что так или иначе угрожает сознанию. С другой стороны, подсознательные влечения, заложенные генной программой, проникают в сознание сквозь цензора, трансформируясь в осознанные желания и мотивы, движущие поступками и решениями человека.
Возникает вопрос: что может угрожать сознанию и вытесняться из него? По нашему мнению, в психике заложены механизмы, вытесняющие из сознания то, что, будучи логически оценено осознающей личностью, дает ей отрицательную оценку в той или иной мере. Не случайно жестокие убийцы порой сами вершили суд над собой, если не становились сумасшедшими. Чаще всего к самоубийству человек приходит, сознательно, логически взвесив смысл дальнейшего существования, решив, что он не в силах более нести моральный груз.
Учитывая, что совершение ошибок в деятельности неизбежно, нормальная психика обладает защитой от деморализующего воздействия допущенных ошибок, вытесняя, забывая то, что угрожает сознанию. Так, например, замечено, что если нас обидели незаслуженно, то мы это долго помним, при случае опровергаем, а порой готовы отомстить. Если же критика была справедливой, то она быстро забывается.
Кроме описанного механизма вытеснения существуют и действуют другие мощные защитные механизмы: отрицание — уход в фантазию, отрицание какого-либо события как неправды; рационализация — бессознательная попытка оправдать, объяснить свое неправильное или абсурдное поведение, построение приемлемых моральных, логичных обоснований; инверсия или противодействие — подмена действия, мысли, чувств, отвечающих подлинному желанию, на диаметрально противоположные поведение, мысли, чувства; проекция — бессознательная попытка приписать другому человеку свои собственные качества, мысли, чувства; замещение — проявление эмоционального импульса переадресовывается от более угрожающего объекта или личности к менее угрожающему; изоляция — отделение угрожающей части ситуации от остальной психической сферы; регрессия — возвращение на более ранний, примитивный способ реагирования [4, с. 62 — 64].
Во многом судебные ошибки объясняются проявлением закономерностей психоаналитической теории ошибочных действий. К ошибочным действиям относятся: оговорки, когда вместо одного слова употребляют другое; описки, когда это происходит при письме; очитки, когда читают не то, что напечатано; ослышки, когда человек слышит не то, что ему говорят; забывание имени, намерения, запрятывание, затеривание, ошибки — заблуждения и т.д. [5, с. 12]. Все эти действия не связаны с физиологическими расстройствами и возникают тогда, когда внутренние побуждения человека приходят в противоречие с тем, что он должен совершить по роду деятельности. В этих случаях, как правило, глубокосознательная часть личности, называемая «Сверх-Я», — совесть, идеалы, убеждения — действует на бессознательном уровне и порой настолько фальсифицирует окружающее, что обыденное сознание не замечает очевидного.
Показателен интересный пример. Суд рассматривал дело о признании гражданина недееспособным. В период действия ГПК РСФСР слушания происходили в коллегиальном составе суда — председательствующий судья и два заседателя, с участием прокурора и представителя органа опеки и попечительства. Заявитель вел дело крайне небрежно: не указал место нахождения истории болезни сына, не являлся в суд, что повлекло оставление заявления без рассмотрения, после назначения экспертизы не принял мер к представлению больного экспертам. Через 1,5 года после пяти заседаний суд огласил решение в отсутствие заявителя. При этом все процессуальные правила были соблюдены: решение оглашено в зале судебного заседания, а в ходе разбирательства и при оглашении присутствовали кроме состава суда прокурор и представитель органа опеки и попечительства, т.е. пять независимых субъектов. Когда же, опять-таки по своей небрежности, через месяц заявитель получил решение, он обнаружил, что суд признал недееспособным не сына, а его самого. В этом случае бессознательная совесть каждого участника заседания посчитала недееспособным именно заявителя и не заметила описки в решении, так как он совершенно ненадлежащим образом и даже неадекватно относился к своим процессуальным правам и обязанностям, хотя с юридической точки зрения вопрос о его недееспособности никто не ставил. Не случайно, испытанное временем, наше процессуальное законодательство содержит институт исправления описок в решении.
Следует знать председательствующим судьям и учение о внутренних конфликтах человека. Так, например, межролевые конфликты — между социальными ролями профессионала и другими его социальными ролями — были замечены и изложены в отечественной литературе в 1977 [2, с. 26 — 27] и 1981 гг. [1, с. 76].
В жизни судья кроме роли профессионального председательствующего на процессе исполняет роль мужчины или женщины, сына или дочери, отца или матери, сестры или брата, потребителя товаров и услуг, пациента, нанимателя или собственника недвижимости, члена садового общества, водителя или пассажира автомобиля, возможно, преподавателя или аспиранта и т.п. Различное отношение к оцениваемым в юридическом процессе событиям, проистекающее от названных и иных ролей, формирует внутренний межролевой конфликт в подходах к оценке происходящего. Например, если председательствующий ранее в своей жизни являлся жертвой похитителей автомобилей или мошенников, то, рассматривая другие подобные деяния в процессе, он будет относиться к ним, возможно, иначе, чем тот судья, который в качестве потерпевшего в аналогичных событиях не участвовал. Решая жилищный или наследственный спор, размышляя над вопросами, кого следует признать членами семьи нанимателя жилого помещения, что значит «вести общее хозяйство», как оценить действия по принятию или непринятию наследства, судья волей или неволей обращается к личному опыту посредством погружения в иные социальные роли, которые он исполнял или исполняет.
Известен печальный пример, когда следователь прокуратуры передал обвиняемому, находящемуся под стражей, огнестрельное оружие для побега, поскольку в этом следователе внутренняя роль женщины, полюбившей обвиняемого, возобладала в межролевом конфликте над ролью стороны государственного обвинения.
Следует учитывать в работе судьи и большое влияние установки. Установка формируется элементами перцептивными, из представлений и восприятий (это хорошо, а это плохо), а также репродуктивными, воспроизведенными из памяти (будет так, как в прошлый раз). Таким образом, установка является следствием восприятия действительности, вступающим в противоречие с осмыслением и анализом событий в настоящем времени в ходе судебного разбирательства.
В ходе исследования, предпринятого Т.Г. Морщаковой, впоследствии судьей Конституционного Суда России, механизма воздействия психической установки на мыслительные процессы, на формирование ошибочных решений судьями были выявлены три основные группы судебных работников, допускавших типичные для них ошибки при рассмотрении уголовных дел.
Первые правильно устанавливали обстоятельства дела, но под влиянием установки о виновности подсудимого и обвинительного уклона, несмотря на наличие оснований для вынесения оправдательного приговора, не видели их и подписывали обвинительный приговор.
Вторые видели, что достаточные основания для вынесения обвинительного приговора отсутствуют, подсудимый должен быть оправдан, однако дело возвращали для проведения дополнительного расследования.
Третьи при недостаточности обвинения, подтвержденного в судебном заседании, участвовали в постановлении обвинительного приговора, но определяли меру наказания столь низкую, которая явно не соответствовала деянию, признанному совершенным [3, с. 473].
Психическая установка сопровождает любую деятельность человека, в том числе и судебную, и оказывает как положительное, так и отрицательное влияние.
Основываясь на сказанном, можно предложить председательствующим следующие рекомендации по предупреждению судебных ошибок.
- Надо объективно знать себя и свои собственные комплексы. В случае, когда разрешение дела их затрагивает, нужно обязательно вне судебного заседания и заблаговременно, до удаления в совещательную комнату, обсудить правовую ситуацию, не называя фамилий и точных наименований, с коллегами, на профессиональной учебе или с куратором.
- Если, принимая решение исходя из закона и обстоятельств, вы все же полагаете, что оно несправедливо, следует очень внимательно отнестись к проверке текста в резолютивной и окончательной формах, иначе собственные убеждения, срабатывая на бессознательном уровне, могут наделать «ошибок».
- Когда вы взволнованы или обижены действиями одной из сторон, нельзя поддаваться неприязни или симпатии, а необходимо постараться объективно оценить именно правовую ситуацию. Если замечено или известно из личного опыта, что эмоции берут верх, нужно сделать перерыв в процессе.
- Анализируя решения, которые отменены или изменены, следует обязательно записывать, хранить и помнить не только констатацию ошибки юридической, но и констатацию ошибки психологической. Например, констатация ошибки юридической — вынося заочное решение, суд должен убедиться, что в деле есть доказательства надлежащего извещения ответчика. Констатация ошибки психологической — не следует отрицательно относиться к ответчику, который не явился, и спешить выносить решение, хотя бы истец и говорил об ответчике плохо.
Литература
- Баев О.Я. Конфликты в деятельности следователя (вопросы теории). Воронеж, 1981.
- Котов Д.П., Шиханцов Г.Г. Психология следователя. Воронеж, 1977.
- Романов В.В. Юридическая психология: Учебник. М.: Юристъ, 2003.
- Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов н/Д: Феникс, 2000.
- Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. СПб.: Питер, 2001.
Участники дискуссии высказали разные точки зрения на причины возникновения ошибочных судебных решений. По мнению одних, это является следствием слишком частой корректировки законодательства, другие указывают на человеческий фактор, третьи акцентируют внимание на несовершенстве судебного процесса и судебной системы как таковых.
14 февраля в рамках XVI научно-практической конференции «Ковалевские чтения» в Екатеринбурге состоялась панельная дискуссия «Судебные ошибки и их источники: законодатель, стороны или сами судьи?». Модераторами дискуссии выступили президент АП Воронежской области Олег Баулин и заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор, эксперт Совета Европы, Комитета ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию Виталий Квашис.
Перед началом дискуссии Олег Баулин напомнил, что согласно определению, которое предложил судья Конституционного Суда РФ Геннадий Жилин, «судебная ошибка – это несовпадение результата процессуальной деятельности с целевыми установками судопроизводства». Между тем судебные ошибки, в том числе повлекшие тяжелые последствия, не входят в предмет судебной статистики и зачастую остаются в исследовательской тени.
Взгляд ученых
Дискуссия стартовала с академического взгляда на проблему, который представила доктор юридических наук, профессор МГЮА Татьяна Понятовская. Она привела несколько примеров ошибочного, с ее точки зрения, правоприменения со стороны Верховного Суда РФ, позиция которого порой меняет правовой смысл нормы законодательства. В качестве иллюстрации она привела п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление», который, как полагает эксперт, противоречит ч. 3 ст. 37 УК РФ «Необходимая оборона».
«Вертикальной ошибкой» законодателя в свою очередь назвал принципы, на которых построен институт условно-досрочного освобождения, профессор кафедры уголовного права и криминологии МГУ им. Ломоносова Вячеслав Селивёрстов. Он перечислил типичные причины для взысканий, которым подвергаются заключенные, лишающие их тем самым права на УДО: не застегнутая пуговица, дневной сон, курение в неположенном месте и т.д. «Каким образом наказания за курение или сон помогают избегать рецидива преступления в будущем?» – задавался риторическим вопросом ученый.
По его убеждению, институт УДО должен основываться не на критериях наличия взысканий и поощрений при соблюдении режима отбытия наказания, а на позициях степени социализации осужденного – получил ли он новую профессию или образование во время отбытия срока, участвовал ли в кружках художественной самодеятельности, соревнованиях и конкурсах, проводимых исправительными учреждениями, поддерживала ли его семья, приезжали ли родственники на свидания, присылали ли посылки, есть ли ему где жить после освобождения, готовы ли его где-то взять на работу и т.д.
Позиция судей и прокуроров
Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова в своем выступлении отметила, что прокуроры тоже люди и иногда ошибаются. За свои ошибки они приносят извинения незаконно обвиненным гражданам и тем, кто незаконно содержался в СИЗО. Впрочем, как отметили другие выступающие, часто прокурорам приходится извиняться даже не за свои ошибки, а за ошибки следствия, и это не вполне правильно.
В своей речи Светлана Кузнецова рассказала о концептуальном споре с одним екатеринбургским судьей, которая полагает, что осуждение невиновного – более страшная судебная ошибка, чем оправдание виновного. «Этот спор, видимо, будет вечным», – констатировала прокурор, добавив, что одинаково страшно вынести как незаконный оправдательный, так и незаконный обвинительный приговор. Они оба кому-то причиняют вред: либо материальный, либо моральный. Спикер подчеркнула, что при любом судебном решении всегда кто-то будет недоволен и будет считать его ошибочным, однако такова система уголовного судопроизводства.
Председатель 1-го судебного состава апелляционной инстанции Судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда Вячеслав Нагорнов был более конкретен. Он признал, что судьи порой ошибаются, но, по его мнению, такое право у них есть: «Это право вытекает из принципа независимости суда».
В то же время судья назвал некоторые факторы, способствующие появлению судебных ошибок; главным из них он считает нестабильность законодательства. «Введение скоропалительных решений законодателем, слишком частые смены формулировок правовых норм, взаимопротиворечащие положения – вот что плодит судебные ошибки», – убежден Вячеслав Нагорнов. Также он заметил, что каждая неисправленная судебная ошибка означает несостоятельность государства в глазах общества. При этом ошибка является результатом совместной деятельности сторон, которые подчас заинтересованы склонить судью к ошибочному решению.
Постулаты адвокатов и юристов
Управляющий партнер адвокатского бюро «ЗКС» Денис Саушкин в своем выступлении обратил внимание на такую проблему, как ошибочные судебные решения на основании ошибочных или некачественных экспертиз. Он привел в пример ошибки судебных экспертов при проведении судебно-медицинских экспертиз, которые в итоге повлияли на вынесенные судом решения.
Однако особо эксперт заострил внимание на экономических делах: «Часто получается, что при экспертизе финансовых документов на рассмотрение специалистам следствие предоставляет не всё. По предъявленной части – преступление есть, а если рассмотреть и другие материалы дела, то преступления уже нет», – сокрушался адвокат. По его мнению, исправить сложившуюся ситуацию можно, изменив положения УПК РФ, а именно обязав органы предварительного следствия предоставлять сторонам все документы, направляемые на экспертизу. С помощью этого сторонам можно будет оперативно, до рассмотрения материалов экспертами, завить возражения, если на экспертизу направляется лишь часть материалов, имеющих значение для выводов эксперта.
Партнер юридической компании «Пепеляев Групп» Роман Бевзенко перечислил ряд обстоятельств, способствующих, по его мнению, возникновению судебных ошибок. Среди главных – плохое оформление текстов судебных решений и принципы рекрутинга в судейский корпус.
Говоря о низком качестве судебных текстов, спикер пояснил, что имеет в виду отсутствие практики разделения судебных актов на блоки, разделы, отсутствие четкой логической структуры судебного анализа рассмотренных материалов и доводов сторон. Он отметил, что когда решение представляет собой 18 страниц сплошного текста, то в этом документе легко потеряться и просто забыть какие-то аргументы и доводы стороны, которым нужно было дать оценку. Также Роман Бевзенко раскритиковал практику просто перечисления судьями содержания статьей кодексов, после которого сразу идут выводы суда: «Где логическая связь между перечисленными нормами и выводами?»
Что же касается принципов формирования судейского корпуса, то типичная карьера судьи, по словам Романа Бевзенко, следующая: секретарь судебного заседания – помощник судьи – судья. Однако такой судья, не работавший «в поле», не знает изнанки бизнес-процессов, не имеет опыта работы юристом в коммерческих организациях, и у него отсутствует соответствующий бэкграунд для понимания экономических реалий. По мнению Романа Бевзенко, это значительно затрудняет работу арбитражного судьи.
Семь лет своей жизни я провел в судебной системе, работал в аппарате Высшего арбитражного суда, не понаслышке знаю судейский корпус и вправе рассуждать о причинах судебных ошибок, которые допускают в арбитражных судах при рассмотрении гражданских споров. Для себя я выделяю пять ключевых причин появления судебных ошибок, которые потом обсуждаются в вышестоящих инстанциях.
Первая: к сожалению, правила арбитражно-процессуального кодекса требуют, чтобы суд огласил резолютивную часть судебного акта сразу после окончания слушаний. То есть стороны выступили, суд удаляется в совещательную комнату, потом выходит и провозглашает резолютивку. После этого суд должен в течение некоторого времени — которое установлено кодексом — написать полный текст судебного акта. Раньше я довольно часто слышал от коллег-судей, что дел у них очень много, а времени мало. За день, например, нужно рассмотреть 15 больших сложных споров.
Я успеваю полистать дело, у меня сложилось какое-то первое впечатление о нем, потом послушал стороны, удалился в совещательную сторону, вынес решение, огласил, — говорили судьи. — Начал отписывать решение, погрузился подробнее в детали, изучил документы… Черт! Я неправильно решил дело! Провозгласил неверное решение! Надо было отказывать в иске, а я его удовлетворил.
Можно ли упрекать судью в такой ошибке? Я думаю, нет. Это общий порок того, как устроено рассмотрение гражданских споров в России. Дел слишком много, судей мало, нагрузка на них чересчур большая. Кроме того, к огромному сожалению, процессуальные кодексы устанавливают краткие и неоправданные сроки для рассмотрения дел, в течение которых суд должен вынести решение. Это вообще стилистическая особенность именно российского гражданского процесса — устанавливать сроки для рассмотрения дел. А ведь хорошее правосудие не может быть быстрым. И уж тем более хорошее правосудие не может быть поставлено в жесткие рамки процессуальных сроков для рассмотрения дел.
То есть первую проблему можно эффективно решить, отказавшись от принципа обязательности оглашения судебного акта незамедлительно после окончания слушаний. Судье нужно дать время подумать, почитать, походить, возможно, пообсуждать с коллегами те правовые вопросы, над которыми он рассуждает.
Вторая причина ошибок связана с тем, что многие судьи, которые рассматривают гражданские дела, не всегда осознают отличия стандартов доказывания, которые есть в гражданском процессе и в уголовном. Так, уголовный процесс основан на стандарте доказывания «Вне всяких разумных сомнений». То есть не должно остаться никаких сомнений в том, что подсудимый виновен.
В гражданском процессе стандарт доказывания совсем другой — «Баланс вероятности». То есть скорее был факт, чем его скорее не было. Скорее да, чем скорее нет. Скорее директор действительно подписал этот договор, чем скорее не подписывал. Скорее товар был передан, чем не был.
Мы видим огромную проблему в том, что судьи, которые разбирают гражданские дела, допускают смешение стандартов доказывания. И в первую очередь — в делах о взыскании убытков. Наша судебная практика на протяжении полутора десятков лет пришла к тому, что стандарт доказывания в делах о взыскании убытков был, по сути, задран до того же стандарта, что используется в уголовных делах. Итог очень простой: истец никогда не может доказать убытки. И получается, что самый главный иск в арбитражном суде, иск кредитора о возмещении причиненных ему убытков, — практически проигрышная история.
Если посмотреть судебную статистику по спорам о взыскании убытков, особенно на их удовлетворяемость, она смехотворна! Такого не может быть в нормальном развитом правопорядке.
Третья причина судебных ошибок — это относительно невысокая культура написания судебных текстов. Как устроено решение по гражданскому делу сегодня в России: это, как правило, сплошной текст. В лучшем случае мы увидим разделение на абзацы, но никаких частей типа «позиция истца», «позиция ответчика», «позиция суда».
Если мы возьмем, например, акты вышестоящих судебных инстанций, то тоже не увидим деления на блоки: позиция нижестоящего суда; причины, по которым вышестоящий суд не согласился с нижестоящим. Суды просто вываливают на нас сплошной текст на 10-15-20-30 страниц, в котором нет элементарной культуры письменной речи — разделения на смысловые блоки!
А когда ты пишешь такой текст, то ошибиться намного легче. Проще пропустить какие-то аргументы, которые были выдвинуты стороной, замолчать их. И наоборот: если в тексте вы указываете: «У истца было пять аргументов», и дальше, как судья, анализируете: «Первый не подходит потому-то, второй отклоняется по такой причине», то вероятность ошибки намного меньше.
Мы до сих пор не научились писать судебные акты правильно и красиво, и это, в том числе, порождает то, что судьи невнимательно относятся к аргументам сторон, просто иногда замалчивают их, и поэтому допускают ошибки.
Четвертая причина тоже связана с культурой письменной речи, а именно, с культурой написания судебных актов.
К огромному сожалению, суды боятся открытых рассуждений. Очень редко когда судья имеет смелость написать: «Свидетель такой-то сказал то-то, но я ему не доверяю, потому что он нервничал, у него бегали глаза. Поэтому те показания, что он дал, скорее всего, недостоверны». Наши судьи не пишут судебные акты от первого лица — я.
Такая деперсонализация, деидентификация судебных актов просто приводит к тому, что судья отстраняется от результата своего творчества, своего детища, и не так тщательно относится к тому, как этот акт будет выглядеть, как будут воспринимать его читатели.
Давайте возьмем средний акт по гражданскому делу! Что это такое? Это изложение обстоятельств дела, дальше вы увидите 10-15 абзацев, где будут просто процитированы нормы Гражданского кодекса. Например, «в соответствии со статьей 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом». Как будто мы не знаем, что написано в статье 309 ГК! Зачем это писать? Какой смысл в простом цитировании нормативных актов?
И мы видим пулеметную очередь из абзацев-цитат законов и дальше: «На основании изложенного суд решил». А где логика? Где рассуждение? Как мы поймем, что суд действительно вывел из неких законоположений какое-то умозаключение?
Есть исключения из этого правила, конечно. Но, к сожалению, подавляющее большинство текстов, которые сегодня выносят суды по гражданским спорам, на мой взгляд, не очень убедительны.
И последняя причина ошибок, которые могу допускать судьи, кроется в принципе рекрутинга судейского корпуса.
Не секрет, что основной источник пополнения штата судей в арбитражных судах — это помощники, бывшие секретари судебных заседаний. И, по большому счету, карьера судьи такова: секретарь — помощник — судья. При рекрутинге судей очень опасливо относятся к юристам, которые пришли извне, не работавшим в судебной системе. Мне, например, неизвестны случаи, когда судьями арбитражных судов становились люди, имеющие за плечами практический опыт работы юрисконсультами или адвокатами.
Я не хочу сказать, что помощники судей как судьи хуже, чем бывшие адвокаты. Я хочу просто подчеркнуть: когда карьерная лестница, по которой человек пришел к должности судьи и надел мантию, не содержит в себе опыта практической юриспруденции, такому судье при рассмотрении коммерческих споров будет сложно. Ведь он не знает коммерческой жизни.
При том что в спорах, которые рассматриваются в арбитражных судах, распространены сложнейшие дела, связанные с банкротством, с привлечением к субсидиарной ответственности лиц, которые довели компанию до несостоятельности. С оспариванием сделок, с привлечением к ответственности директоров, которые действуют во вред интересам компаний. На мой взгляд, крайне тяжело разрешать такие споры правильно, если у тебя нет практического бэкграунда.
Если ты не знаешь бизнес-жизнь изнутри, ее изнанку, не имеешь представления, принято ли в бизнесе делать то, что делал директор, можно ли совершать такие сделки в тех условиях, в каких находился он, как ты можешь выносить суждение о том, действительно ли глава компании действовал против ее интересов?!
Поэтому, к огромному сожалению, ошибки в делах, связанных с непременным наличием бизнес-опыта у того, кто рассматривает спор, завязаны на технологию формирования судейского корпуса. А она сегодня является в России доминирующей.
Не так давно меня пригласили выступить на Ковалевских чтениях в Екатеринбурге. Это мероприятие в основном посвящено проблемам уголовного права, но была и общая панель, посвященная судебным ошибкам. Тема моего выступления была такая: почему судьи арбитражных судов допускают ошибки при разрешении дел.
Ниже — текст моего выступления, переданный очень близко к тому, что я говорил. Автор текста — Екатерина Стихина
За приглашение участвовать в таком интересном мероприятии — большое спасибо Denis Puchkov.
* * *
— Семь лет своей жизни я провел в судебной системе, работал в аппарате Высшего арбитражного суда, не понаслышке знаю судейский корпус и вправе рассуждать о причинах судебных ошибок, которые допускают в арбитражных судах при рассмотрении гражданских споров. Для себя я выделяю пять ключевых причин появления судебных ошибок, которые потом обсуждаются в вышестоящих инстанциях.
Первая: к сожалению, правила Арбитражного процессуального кодекса требуют, чтобы суд огласил резолютивную часть судебного акта сразу после окончания слушаний. То есть стороны выступили, суд удаляется в совещательную комнату, потом выходит и провозглашает резолютивку. После этого суд должен в течение некоторого времени — которое установлено кодексом — написать полный текст судебного акта. Раньше я довольно часто слышал от коллег-судей, что дел у них очень много, а времени мало. За день, например, нужно рассмотреть 15 больших сложных споров.
Я успеваю полистать дело, у меня сложилось какое-то первое впечатление о нем, потом послушал стороны, удалился в совещательную сторону, вынес решение, огласил, — говорили судьи. — Начал отписывать решение, погрузился подробнее в детали, изучил документы… Черт! Я неправильно решил дело! Провозгласил неверное решение! Надо было отказывать в иске, а я его удовлетворил.
Можно ли упрекать судью в такой ошибке? Я думаю, нет. Это общий порок того, как устроено рассмотрение гражданских споров в России. Дел слишком много, судей мало, нагрузка на них чересчур большая. Кроме того, к огромному сожалению, процессуальные кодексы устанавливают краткие и неоправданные сроки для рассмотрения дел, в течение которых суд должен вынести решение. Это вообще стилистическая особенность именно российского гражданского процесса — устанавливать сроки для рассмотрения дел. А ведь хорошее правосудие не может быть быстрым. И уж тем более хорошее правосудие не может быть поставлено в жесткие рамки процессуальных сроков для рассмотрения дел.
То есть первую проблему можно эффективно решить, отказавшись от принципа обязательности оглашения судебного акта незамедлительно после окончания слушаний. Судье нужно дать время подумать, почитать, походить, возможно, пообсуждать с коллегами те правовые вопросы, над которыми он рассуждает.
Вторая причина ошибок связана с тем, что многие судьи, которые рассматривают гражданские дела, не всегда осознают отличия стандартов доказывания, которые есть в гражданском процессе и в уголовном. Так, уголовный процесс основан на стандарте доказывания «Вне всяких разумных сомнений». То есть не должно остаться никаких сомнений в том, что подсудимый виновен.
В гражданском процессе стандарт доказывания совсем другой — «Баланс вероятности». То есть скорее был факт, чем его скорее не было. Скорее да, чем скорее нет. Скорее директор действительно подписал этот договор, чем скорее не подписывал. Скорее товар был передан, чем не был.
Мы видим огромную проблему в том, что судьи, которые разбирают гражданские дела, допускают смешение стандартов доказывания. И в первую очередь — в делах о взыскании убытков. Наша судебная практика на протяжении полутора десятков лет пришла к тому, что стандарт доказывания в делах о взыскании убытков был, по сути, задран до того же стандарта, что используется в уголовных делах. Итог очень простой: истец никогда не может доказать убытки. И получается, что самый главный иск в арбитражном суде, иск кредитора о возмещении причиненных ему убытков, — практически проигрышная история.
Если посмотреть судебную статистику по спорам о взыскании убытков, особенно на их удовлетворяемость, она смехотворна! Такого не может быть в нормальном развитом правопорядке.
Третья причина судебных ошибок — это относительно невысокая культура структурирования судебных текстов. Как устроено решение по гражданскому делу сегодня в России: это, как правило, сплошной текст. В лучшем случае мы увидим разделение на абзацы, но никаких частей типа «позиция истца», «позиция ответчика», «позиция суда».
Если мы возьмем, например, акты вышестоящих судебных инстанций, то тоже не увидим деления на блоки: позиция нижестоящего суда; причины, по которым вышестоящий суд не согласился с нижестоящим. Суды просто вываливают на нас сплошной текст на 10-15-20-30 страниц, в котором нет элементарной культуры письменной речи — разделения на смысловые блоки!
А когда ты пишешь такой текст, то ошибиться намного легче. Проще пропустить какие-то аргументы, которые были выдвинуты стороной, замолчать их. И наоборот: если в тексте вы указываете: «У истца было пять аргументов», и дальше, как судья, анализируете: «Первый не подходит потому-то, второй отклоняется по такой причине», то вероятность ошибки намного меньше.
Мы до сих пор не научились писать судебные акты правильно и красиво, и это, в том числе, порождает то, что судьи невнимательно относятся к аргументам сторон, просто иногда замалчивают их, и поэтому допускают ошибки.
Четвертая причина тоже связана с культурой письменной речи, а именно, с культурой написания судебных актов с содержательной стороны.
К огромному сожалению, суды боятся открытых рассуждений. Очень редко когда судья имеет смелость написать: «Свидетель такой-то сказал то-то, но я ему не доверяю, потому что он нервничал, у него бегали глаза. Поэтому те показания, что он дал, скорее всего, недостоверны». Наши судьи не пишут судебные акты от первого лица — я.
Такая деперсонализация, деидентификация судебных актов просто приводит к тому, что судья отстраняется от результата своего творчества, своего детища, и не так тщательно относится к тому, как этот акт будет выглядеть, как будут воспринимать его читатели. (Например, я когда пишу решения по делам, где я выступаю в качестве арбитра, я всегда пишу текст от первого лица «я полагаю», «мне представляется», «меня не убедило» и т.д.).
Давайте возьмем средний акт по гражданскому делу! Что это такое? Это изложение обстоятельств дела, дальше вы увидите 10-15 абзацев, где будут просто процитированы нормы Гражданского кодекса. Например, «в соответствии со статьей 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом». Как будто мы не знаем, что написано в статье 309 ГК! Зачем это писать? Какой смысл в простом цитировании нормативных актов?
И мы видим пулеметную очередь из абзацев-цитат законов и дальше: «На основании изложенного суд решил». А где логика? Где рассуждения? Как мы поймем, что суд действительно вывел из неких законоположений какое-то умозаключение?
Есть исключения из этого правила, конечно. Но, к сожалению, подавляющее большинство текстов, которые сегодня выносят суды по гражданским спорам, на мой взгляд, не очень убедительны.
И последняя причина ошибок, которые могу допускать судьи, кроется в принципе рекрутинга судейского корпуса.
Не секрет, что основной источник пополнения штата судей в арбитражных судах — это помощники, бывшие секретари судебных заседаний. И, по большому счету, карьера судьи такова: секретарь — помощник — судья. При рекрутинге судей очень опасливо относятся к юристам, которые пришли извне, не работавшим в судебной системе. Мне, например, неизвестны случаи, когда судьями арбитражных судов становились люди, имеющие за плечами практический опыт работы юрисконсультами или адвокатами.
Я не хочу сказать, что помощники судей как судьи хуже, чем бывшие адвокаты. Я хочу просто подчеркнуть: когда карьерная лестница, по которой человек пришел к должности судьи и надел мантию, не содержит в себе опыта практической юриспруденции, такому судье при рассмотрении коммерческих споров будет сложно. Ведь он не знает коммерческой жизни.
При том что в спорах, которые рассматриваются в арбитражных судах, поднимаются сложнейшие вопросы, связанные с банкротством, с привлечением к субсидиарной ответственности лиц, которые довели компанию до несостоятельности. С оспариванием сделок, с привлечением к ответственности директоров, которые действуют во вред интересам компаний. На мой взгляд, крайне тяжело разрешать такие споры правильно, если у тебя нет практического бэкграунда.
Если ты не знаешь бизнес-жизнь изнутри, ее изнанку, не имеешь представления, принято ли в бизнесе делать то, что делал директор, можно ли совершать такие сделки в тех условиях, в каких находился он, как ты можешь выносить суждение о том, действительно ли глава компании действовал против ее интересов?!
Поэтому, к огромному сожалению, ошибки в делах, связанных с непременным наличием бизнес-опыта у того, кто рассматривает спор, завязаны на технологию формирования судейского корпуса. А она сегодня является в России доминирующей.
Материал написан на основе выступления на XVI Международной научно-практической конференции «Ковалевские чтения». http://ekb.dk.ru/news/pyat-prichin-strashnyh-oshibok-sudey-v-arbitrazhah-pochemu-vy-nikogda-ne-dokazhete-svoi-ubytki-237118065?fbclid=IwAR2vVi5ZT-g0YXhSXDN5K7jPbnW6BZvS6MnjTZKkNsk3ihRkXss6xMqFMZY
Глава 4. Психология вынесения приговора
Вынесение приговора — заключительная стадия судебного разбирательства, которая осуществляется в совещательной комнате. Работа суда в совещательной комнате протекает в условиях специфических отношений, которые возникают только между составом судей. В это время судьи не могут вступать в контакт с другими лицами, так как подобные действия категорически запрещены законом. Это обязывает судей проявлять повышенную психическую активность и внимание при обсуждении всех вопросов, строить свои внутриколлективные отношения на принципах равенства, товарищества, доверия. Отступление от упомянутых психологических закономерностей общения в совещательной комнате может привести к грубейшим юридическим ошибкам.
Строгое ограничение коллегиальности способствует повышению чувства ответственности судей за результаты их деятельности в совещательной комнате, гарантирует от посторонних влияний.
Коллегиальное обсуждение снижает остроту эмоционального воздействия информации, воспринятой каждым из судей в процессе судебного следствия, обеспечивает более полное и точное восприятие информации. Последнее обстоятельство было подтверждено экспериментально. «… Группа в составе семи участников эксперимента заслушала показания очевидцев одной сцены, после чего каждый из семи «судей» составил отдельный отчет о событии. Затем было проведено обсуждение «дела» и результаты дискуссии отражены в общем резюме. Выяснилось, что в индивидуальных отчетах «судьи» сообщили меньшее количество деталей, чем это сделали очевидцы, и допустили вдвое больше фактических ошибок. Эффект дискуссии выразился в том, что количество ошибок в коллективном резюме по сравнению с индивидуальными отчетами сократилось в два раза и оказалось даже меньше, чем количество ошибочных утверждений в показаниях каждого очевидца»1.
Для того чтобы совещание протекало наиболее успешно и давало положительные результаты, необходимо в процессе его соблюдать определенную последовательность деятельности судей. Уголовно-процессуальный закон подробно регламентирует порядок совещания судей. Так, ст. 306 УПК устанавливает следующий порядок совещания при выяснении приговора. Председательствующий ставит на разрешение суда вопросы в той последовательности, в какой они изложены в ст. 303 УПК. Каждый вопрос должен быть поставлен в ясной и понятной форме, чтобы на него можно было получить однозначный (либо утвердительный, либо отрицательный) ответ. Никто из судей не имеет права воздержаться от дачи ответа. Чтобы мнение председательствующего не оказывало влияния на остальных членов суда, закон обязывает его высказывать свое мнение последним. Указанное требование объясняется тем, что, как показывают психологические исследования закономерностей общения, при наличии в группе специалиста в определенной отрасли знания в ходе совместного решения вопросов остальные члены группы склонны соглашаться с мнением этого специалиста (профессионала). В данном случае наблюдается определенное внушающее воздействие со стороны специалиста. Поэтому закон и определяет такой порядок, при котором председательствующий во время обсуждения и оценки доказательственного материала обязан высказывать свое мнение последним. По итогам обсуждения в совещательной комнате решение принимается простым большинством голосов.
Практикой выработана такая процедура совещания судей, которая гарантирует формирование истинного и обоснованного коллективного решения суда.
Во всех случаях совещание судей начинается с выявления председательствующим мнений заседателей. Выслушав их, председатель суда высказывает собственное убеждение по разрешаемому вопросу. Если окажется, что личные мнения, убеждения каждого из судей по своему содержанию совпадают, то коллективное мнение, убеждение суда формируются в процессе их выявления. В таких случаях совещание протекает в установленном уголовно-процессуальным законом порядке и состоит из двух частей: вначале ставятся вопросы и выслушиваются ответы заседателей, т. е. формируется коллективное убеждение, а затем принимается решение на основе этого убеждения.
Иной характер приобретает совещание судей, когда мнения судей разделяются. В таких случаях установленный уголовно-процессуальным законом порядок совещания судей не всегда может способствовать установлению истины. Слишком узок круг судебной коллегии, чтобы большинство судей безразлично относились к мнению оставшегося в меньшинстве судьи, чтобы не ценилось мнение каждого ее члена. «Как правило, — отмечает В. Ф. Бохан, — в таких случаях организуется широкое обсуждение разрешаемого вопроса и тех обстоятельств дела, которые влияют на его разрешение. Цель этого обсуждения заключается в выработке у всех судей полного единообразного понимания фактов и явлений объективной действительности, которые исследовались во время разбирательства уголовного дела в судебном заседании»2.
При установлении расхождений во мнениях прежде всего выявляются те доказательства, на основании которых формировались у судей личные убеждения. Председательствующий предлагает заседателям обосновать свои выводы исследованными доказательствами, а затем делает это сам. Каждый из участников совещания излагает те выводы, на основании которых у него сложилось убеждение в истинности предложенного им решения по рассматриваемому вопросу. Оценивая накопленные знания заново, судьи анализируют не только убеждение одного судьи, но и всего состава суда. После того как будет тщательно оценено каждое доказательство, судьи приступают к оценке их в совокупности. Это дает возможность выявить конкретные различия в оценках отдельных доказательств или их совокупности.
При обнаружении противоречий в содержании убеждений отдельных судей появляется необходимость одним убеждать других в правоте своих взглядов, защищать, отстаивать и доказывать истинность своих убеждений, опровергать те взгляды и мнения, которые считаются ложными. Умение убедительно доказывать необходимую связь фактов, обстоятельств является чрезвычайно важным и необходимым для каждого судьи. К доказыванию судья прибегает тогда, когда другие члены суда возражают против его точки зрения.
«В дискуссии, — пишет В. Ф. Бохан, — возникающей между судьями в совещательной комнате, следует различать следующие моменты: доказывание собственного мнения, требование доказательств от другого и опровержение мнений собеседника. Наряду с доказыванием собственного мнения судья должен внимательно оценивать и разбирать вслух убеждения других членов состава суда. Если убеждения не мотивированы, то следует обратить внимание судей на это обстоятельство и предложить привести доводы, подтверждающие эти убеждения. Только при наличии доводов можно делать выводы об ошибочности или истинности высказываемых убеждений. Против ошибочных мнений следует не только возражать, но и опровергать их, т. е. приводить в подтверждение их ошибочности объяснения, мотивировки, доказательства»3.
Обсуждение спорных обстоятельств, протекающее в такой психологической атмосфере, способствует принятию объективного коллективного решения.
Выработка коллективного убеждения свидетельствует о том, что у всего состава суда или у его большинства сложилось определенное отношение к истинности исследованных обстоятельств дела. Данное психологическое состояние, отличающееся сознательностью и окончательностью, создает предпосылки для принятия коллективного решения по рассматриваемому делу. Оно принимается в совещательной комнате и влечет за собой или осуждение подсудимого, или оправдание его, или направление дела на дополнительное расследование.
В зависимости от характера принятого решения составляется соответствующий приговор. Так, если формируется убеждение о невиновности подсудимого, то принимается решение об его оправдании или направлении дела на дополнительное расследование, что вызывает составление оправдательного приговора или определения.
Убеждение о виновности подсудимого влечет за собой принятие решения об его осуждении и назначении ему уголовного наказания, для чего составляется обвинительный приговор. Во всех этих и других случаях основой процессуального документа служит коллективное убеждение суда. Его содержание предопределяет и соответствующий вид процессуального документа. Поэтому важно, чтобы содержание убеждения суда достаточно точно и правильно было выражено в составленном документе. При составлении обвинительного приговора это достигается путем лаконичного и последовательного изложения обстоятельств преступного деяния, которое, по убеждению судей, совершил подсудимый.
В совещательной комнате судьи должны не только сделать вывод о виновности подсудимого, но и определить ему меру наказания. Основываясь на санкции установленной нормы закона, состав суда решает вопрос о мере наказания. Этот вопрос может быть решен только на основании глубокого и всестороннего изучения личности подсудимого.
При осуждении к лишению свободы в исправительно-трудовом учреждении, при определении срока лишения свободы наряду с тяжестью совершенного преступления, его общественной опасностью суд учитывает и степень социальной запущенности личности подсудимого.
При решении вопроса о возможности избрания меры наказания, не связанной с лишением свободы, судьи учитывают, что подсудимый раскаялся в содеянном, осознал свою вину, что существующее окружение (микроколлектив) способно воздействовать на него в положительном направлении. При условном осуждении, передаче осужденного на поруки коллективу учитывается возможность создания данным коллективом условий для его перевоспитания.
«На стадии вынесения приговора, — отмечает А. В. Дулов, — выполняется и воспитательная функция. Каждый приговор, решение призваны воспитывать. При вынесении и написании приговора судья всегда должен помнить, что всякий приговор, как писал А. Ф. Кони, должен всегда удовлетворять нравственному чувству людей, в том числе и самого подсудимого. Воспитательное воздействие приговора будет достигнуто в том случае, если он будет понят всеми присутствующими, если он отвечает их нравственному убеждению, основанному на правосознании»4.
________________________________
1 Ратинов А. Р. Советская судебная психология. М., 1967. С. 17.
2 Бохан В. Ф. Указ. соч. С. 135.
3 Там же. С. 139.
4 Дулов А. В. Указ. соч. С. 395.
Хрестоматия по юридической психологии. Особенная часть.
ПСИХОЛОГИЯ СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Глава 7. Психологические аспекты уголовного судопроизводства.
7.4. Психологические аспекты правовой оценки преступного деяния и вынесения приговора
После произнесения подсудимым последнего слова судейская коллегия удаляется в совещательную комнату для осуществления последней стадии судебного процесса – вынесения приговора (решения, определения) суда. Кроме судей и народных заседателей в совещательную комнату не допускается никто из других участников уголовного процесса, чтобы исключить какое бы то ни было постороннее вмешательство в вынесение приговора. Суммируя окончательно все рассмотренные в ходе судебных прений доказательства, мнения обвинения и защиты, судья должен принять решение о виновности или невиновности подсудимого и определить меру наказания, т.е. реализовать основную функцию правосудия.
С процессуальной стороны вынесение приговора является актом строго нормативным и обусловленным рядом формальных требований в целях его обоснованности и законности:
– решение должно приниматься судьями только на основании фактов и доказательств, установленных в судебном разбирательстве;
– председательствующий должен четко формулировать каждый вопрос, чтобы на него был получен категорический ответ (виновен, невиновен; да, нет);
– все члены судебной коллегии равны в праве высказываний по любым вопросам, возникающим при вынесении приговора;
– высказаться обязаны все участники совещания;
– судьи имеют право на выражение особого мнения, если они не согласны с мнением большинства;
– обязателен отвод судьи, если есть данные о его заинтересованности в деле;
– должна сохраняться тайна судебного совещания, а высказанные на нем суждения не должны оглашаться;
– все сомнения, которые не представляется возможным устранить, толкуются в пользу подсудимого;
– признание подсудимым своей вины может быть положено в основу обвинительного приговора только при подтверждении этого признания совокупностью других объективных доказательств, установленных в судебном разбирательстве;
– если в преступлении обвиняется несколько подсудимых, то суд принимает отдельное решение по каждому из них (ст.ст.323-325 УПК Украины).
Соблюдение этих требований обусловливает обоснованность и законность вынесенного приговора и должно в максимальной степени гарантировать избежание судебных ошибок, от которых зависит судьба человека. Однако даже при соблюдении всех нормативных требований судебные ошибки неизбежны в большей или меньшей степени. Если решение судей единогласно, то это повышает вероятность его безошибочности и уверенность членов коллегии в его правильности и справедливости. Но это также не гарантирует от возможных ошибок. Известно немало случаев в истории судебной практики, когда единогласно принятые решения оказывались ошибочными и после исполнения смертного приговора обнаруживались истинные преступники.
Эти обстоятельства обычно связывают с «человеческим фактором», в роли которого выступают индивидуально-психологические свойства лиц, принимающих решение, и социально-психологические закономерности их коллективного взаимодействия. Так, требуемая законом независимость волеизъявления судей не всегда бывает фактически реализуема в связи с психологическими особенностями межличностного взаимодействия членов судебной коллегии, которая представляет собою формальную профессиональную группу и которая оказывает значительное воздействие на каждого из ее членов.
Большую роль в этом играет профессиональный опыт членов судейской коллегии, присущая им психологическая культура тактичного высказывания своего мнения, ведения диспута. Важны также индивидуально-типологические и характерологические особенности каждого из членов этой группы: уверенность, убежденность, принципиальность, степень конформизма – внушаемости, склонности уступать мнению большинства. Важны и характерологические черты председательствующего, который является фактическим лидером и может по-разному проявлять себя в конкретных ситуациях: сохранять устойчивую независимую позицию, стараться влиять на мнение коллег, проявлять конформизм под их коллективным влиянием.
В характере выносимого приговора отражаются как объективные требования закона, так и субъективные убеждения судьи. Убеждения судьи в отношении изучаемого деяния и личности подсудимого формируются в процессе изучения материалов предварительного следствия, судебного разбирательства, мнений защиты и обвинения. Убеждение объединяет в себе интеллектуальный, эмоциональный и моторно-исполнительский компоненты. Интеллектуальный компонент убеждения отражает результаты познавательной деятельности судьи – восприятия и анализа фактов и доказательств по делу, их соотнесение с нормами права. Он отражает также уровень профессиональной квалификации судьи, его юридического мышления и опыта.
Эмоциональный компонент убеждения судьи отражает его эмоциональные переживания и нравственную оценку изучаемого уголовного поступка, а также личности подсудимого и потерпевшего. Исполнительский компонент убеждения побуждает судью с уверенностью в правильности совершаемого действия выносить заключительное решение – приговор и определение меры наказания подсудимого. Убеждение побуждает к сознательному практическому действию, с пониманием его социальной и личностной значимости. И все-таки, внутренняя убежденность судьи является субъективно-индивидуальной, поскольку в ней может быть различным содержание и соотношение входящих в нее компонентов, преобладание эмоционального над интеллектуальным, импульсивность действий и т.п. Это обстоятельство обусловливает различия в принятии заключительного решения по делу разными судьями. Например, согласно ст.121 УК Украины наказание за умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения предусматривается наказание от 5 до 8 лет. Определяя конкретный срок отбывания наказания, судья исходит как из требований закона, так и из собственных убеждений, т.е. психологического фактора, существенно влияющего на правильность или ошибочность избрания меры наказания.
Сходным с убеждением, но специфическим фактором, влияющим на решение судьи, является психологическая установка. Установка относится к уровню неосознанной мотивации и часто предшествует формированию убеждений. Если установка переходит на уровень сознательной самооценки входящих в нее стимулов, то она преобразуется в убеждение. В иных случаях она остается на уровне непроизвольной саморегуляции деятельности. Установки формируются под влиянием широкого круга социальных факторов, действующих на личность в онтогенезе. Установка побуждает человека адаптироваться и усваивать те критерии оценки других людей и формы поведения, которые привычны в данном социуме. Установка обусловливает общесоциальную и профессиональную апперцепцию юриста, т.е. специфическое личностное восприятие специалистом различных аспектов судебной деятельности.
Так, В.В.Романов, ссылаясь на исследования Т.Г.Морщаковой, рассматривает влияние установки на появление судебных ошибок. Согласно приведенным данным, не менее 50% случаев отмены приговоров как не отвечающих требованиям закона, связаны с эффектом психологической установки на принятие судьями приговоров по уголовным делам. В частности, в силу закона апперцепции, установка существенно влияет на направленность интеллектуальных процессов судьи, определяя готовность к определенной форме реагирования на те или иные факты в условиях судебного разбирательства и вынесения приговора. Установка активизирует интеллектуальные процессы юриста, избирательно направляя их на познание и трактовку определенных фактов. При этом важен характер установки: насколько в ней представлен профессиональный опыт, привычка объективно подходить к оценке фактов и доказательств. В этой связи установка может оказывать как положительное влияние на результат заключительного решения судьи, так и способствовать его ошибочности. Судья, имеющий в своей памяти глубокий профессиональный опыт, умеет адекватно и оперативно применить его к решению знакомых судебных задач. Но установка может оказать и негативное влияние в тех случаях, когда судья склонен некритично воспринимать новую ситуацию и решать ее по усвоенному ранее стандарту.
В подобных случаях возникает желание принимать решение в связи с субъективной значимостью предыдущих решений по делу, в частности, с предшествующими выводами следствия. Такая установка, во-первых, подсознательно влияет на ведение судьей судебного разбирательства, суживая пределы изучения всех обстоятельств дела и игнорируя некоторые важные для дела детали; во-вторых, такая установка может привести к формированию окончательного убеждения судьи задолго до перехода в совещательную комнату для вынесения приговора. Такие установки могут иметь место и у следователей, обусловливая эффект «субъективной недоступности» при обнаружении и оценке вещественных доказательств. Таким образом, установка судьи полностью опирается на результаты предварительного следствия, приводит к повторению возможной ошибки в постановлении следователя.
Снятие неадекватных установок в профессиональной деятельности судьи требует профессионализма, критичности, рефлексии, принципиальности, перевода установок в осознанные убеждения, направляющие юриста к целенаправленной профессиональной деятельности и решению судебных задач на основе принципов законности и справедливости.
На формирование установок и убеждений юриста существенно влияют социальные факторы, стимулирующие явления конформизма. На уровне установки наблюдается стихийный непроизвольный конформизм, когда судья привыкает действовать с оглядкой на «вышестоящие инстанции», остерегаясь не судебной ошибки, а неблагоприятных для себя личных последствий. На уровне убеждения наблюдается сознательный конформизм, когда судья произвольно строит свою деятельность с ориентацией не на поиск истины, а на давление свыше, на общественное мнение, на средства массовой информации, которые зачастую неправильно ориентируют общественность, исходя из своих социальных и политических задач.
Только профессиональная направленность на осуществление правосудия и принципиальность судьи могут удержать судью от подобных проявлений конформизма и связанных с ним проявлений профессиональной деформации. Приговор, вынесенный на совещании судей, является единственным процессуальным актом, признающим подсудимого виновным или невиновным в совершении преступления и определяющим ему меру уголовного наказания или оправдание.
Таким образом, приговор выполняет две основных функции правосудия: установление вины и определение справедливого наказания, адекватного характеру совершенного деяния.
Понятие преступной вины является достаточно сложным в теории юриспруденции и может трактоваться по-разному. В отечественном законодательстве господствует положение, согласно которому вина состоит в умышленном (преднамеренном) или неосторожном (непроизвольном) противоправном деянии вменяемого субъекта. Существует и несколько иная точка зрения, согласно которой помимо умысла или неосторожности вина включает в себя еще и нравственную оценку, т.е. признание проявления в содеянном злой воли преступника. На этой позиции базируется суд, призванный быть гуманным («милостивым»). Правильная позиция должна быть компромиссной, т.е. объединять обе точки зрения. Признать преступником можно лишь того человека, который преднамеренно совершил противоправное деяние, проявив свою порочную, злую волю. Если же субъект совершил противоправное действие под давлением непреодолимых обстоятельств, то он вправе рассчитывать на милость правосудия. Однако и в этом случае необходимо тщательное изучение всех обстоятельств происшествия и их соотнесение с качествами личности обвиняемого. Только при этих условиях возможно установить справедливую меру уголовно-правового наказания или оправдать человека.
При определении личностных свойств обвиняемого судья должен различать свойства, может быть и неприятные при внешнем восприятии обвиняемого (например, угрюмость, замкнутость, нежелание общаться, неприятные черты внешнего облика), но, как правило, не играющие роли в совершении преступного деяния, от свойств характерологических, которые могут быть непосредственно связаны с преступной направленностью индивида. Это, как правило, его нравственные черты, определяющие социальную направленность его поведения: жизненные цели, взгляды и убеждения, отношение к нормам морали. Антиобщественный, негуманный характер установок личности, цинизм, фанатизм, жестокость, стяжательство и иные индивидуально-психологические свойства личности являются тем субъективным внутренним фактором, через который преломляются объективные обстоятельства, в которых осуществляется противоправное действие.
Мы должны установить все объективно сложившиеся условия, которые в совокупности могли повлиять на формирование личности в онтогенезе и характер различных семейно-бытовых, производственных и иных конфликтов, в которых оказался обвиняемый. Однако суд должен установить, мог ли субъект активно противостоять грозящей ему ситуации. В одном случае человек действует импульсивно, противодействуя явному насилию и совершает противоправное действие в условиях превышения необходимой самообороны (например, сталкивает насильника с моста в реку). Однако существует множество жизненных ситуаций, в которых субъект способен сделать нравственный выбор. Критерии такого выбора чрезвычайно важны для суда в оценке личности обвиняемого. Например, обвиняемый отрицает свою вину, считая себя жертвой тяжелых социальных обстоятельств: он не имел работы и возможности содержать семью, пошел в наемники, чтобы убивать других людей, не причинивших ему никакого зла. В нем, в интериоризованном плане, уже существовала программа преступного поведения, которая легко реализовалась в сложившихся объективных обстоятельствах. Человек не является пассивным объектом влияния среды, поскольку он имеет возможность выбора. Поэтому далеко не все объективные социальные обстоятельства оцениваются судом как смягчающие вину, кроме тех, которые предусмотрены законом. В основу определения вины и меры наказания суд определяет характер, тяжесть и социальную опасность совершенных противоправных действий; оценивает способ совершения преступления, степень его осуществления (стадия подготовки, покушение, окончательное осуществление), роль обвиняемого в структуре группового преступления, наличие рецидива и т.п.
Большую помощь в принятии решения и определении справедливой меры наказания может оказать судьям заключение судебно-психологической экспертизы, однако выводы экспертизы должны приниматься во внимание только при подтверждении их совокупностью всех других обстоятельств дела. Например, суд не учел при вынесении приговора судебно-психологической экспертизы по делу К., обвинявшегося в умышленном убийстве и мошенничестве. Эксперт утверждал наличие у обвиняемого состояния физиологического аффекта, хотя временные характеристики действия, количество и характер телесных повреждений на теле потерпевшего, мотивация действий обвиняемого не соответствовали признакам аффекта. Сомнение у суда вызвало также полученное на основе стандартных тестов мнение эксперта о честности, скромности и правдивости подсудимого, что не подтверждалось материалами судебного разбирательства.
Отягчающим вину подсудимого обстоятельством суд считает повторность, систематичность совершения преступлений, которая свидетельствует об устойчивости криминальной направленности обвиняемого и которая должна быть учтена при определении справедливой меры наказания.
Обстоятельством, которое может смягчить меру наказания, служит чистосердечное публичное признание своей вины. Однако это должны быть не те вынужденные признания, которые получали судьи церковной инквизиции в пыточных подвалах или соратники Берии в своих казематах. Надо определить искренность признания вины, чистосердечность переживаемого раскаяния в содеянном, готовность искупить свою вину, которые высказывает подсудимый в своем последнем слове. Осознание своей вины и раскаяние оказывается той кульминационной точкой эмоционального состояния, на уровне которой обозначается перестройка мотивации и готовность подсудимого к ресоциализации.
Структура выносимого приговора суда должна соответствовать требованиям закона и обычно включает в себя три части: вводную, мотивировочную и резолютивную (ст.ст. 332-335 УПК Украины). Приговор составляется одним из судей и подписывается всеми участвующими в совещании судьями. Особое мнение должно излагаться отдельно в письменном виде. Обоснование судебного решения должно содержать краткое изложение криминального события, анализ доказательств и доводы, на основании которых суд признал или не признал определенные доказательства. Решение о наличии вины и определение меры наказания должно быть выражено четко и категорично, чтобы при исполнении приговора не возникало никаких сомнений. Суд должен предусмотреть не только меру наказания, но и условия его отбывания в ИТУ определенного режима.
Вынесение приговора должно реализовывать не только карательные, но и воспитательные функции правосудия, поэтому суд должен получать информацию о реализации приговора, о воспитательном эффекте пребывания осужденного в исправительно-трудовом учреждении, а также о поведении условно осужденных. Характер поведения осужденного в местах отбывания наказания, его готовность к исправлению учитывается при решении о досрочном или условно-досрочном освобождении осужденного.
Психологические основы предупреждения судебных ошибок
Жегалов Е.А., судья Первомайского районного суда г. Новосибирска.
Служба правосудию требует полной, беззаветной отдачи умственных и психологических сил, что, безусловно, и отличает работу председательствующих судей. Однако всем известно, что имеют место судебные ошибки, для исправления которых законом предусмотрены вторая и иные судебные инстанции.
Требования закона о быстром и правильном рассмотрении дела ставят очевидный вопрос: как суду первой инстанции минимизировать, предупредить, избежать возможных судебных ошибок и рассмотреть дело в разумный срок? Для ответа на этот вопрос недостаточно владеть только юридической материей по той или иной категории дел, необходимо иметь представление о психологических закономерностях судопроизводства.
К сожалению, эта сфера мало исследуется и даже представляет собой некое табу. Порой судьи в печати рисуются как подобия божеств, способные на все и лишенные человеческих слабостей, а в негативном контексте подаются как субъекты, зависимые от наиболее влиятельной стороны. Полагаем, что и то, и другое недопустимо. Кроме реальных гарантий независимости судей следует знать и задумываться над предупреждением судебных ошибок, имеющих психологическую основу, влекущих существенные юридические последствия.
Судьи такие же люди, как и все, и живут в одной социальной системе с окружающим обществом, а общество имеет такой суд, какой достойно иметь.
Полагаем, любой судья знает, что на практике «только ленивая сторона не пытается повлиять на председательствующего или состав суда». Это воздействие может быть совершенно недопустимым или законно и этически приемлемым. Например, если это допускают правила внутреннего распорядка работы суда — неоднократное появление на приеме у судьи.
Ежедневно и ежечасно судьи решают задачу, как преодолеть это воздействие, не допустить в этом перегиба, ведущего к необъективности, как адекватно противостоять собственному предубеждению, ошибкам и заблуждениям, общественному мнению, совету вышестоящего коллеги, корректному или некорректному пожеланию влиятельного субъекта.
При этом судья вынужден действовать в соответствии со временем. Судебный акт не должен быть отражением ни дня вчерашнего, ни дня будущего. И мышление вчерашнего дня, и мышление дня будущего, опережающее свое время, могут быть отвергнуты последующей инстанцией как неверные и, будучи по существу правильными и справедливыми, могут быть сочтены судебной ошибкой.
Читая постановления последующих судебных инстанций, любой субъект часто испытывает удивление в связи с тем, почему суд первой инстанции допустил ошибку, неправильно оценил доказательства, истолковал или применил закон, не заметил очевидного. Во многом понять этот феномен можно, ознакомившись с теорией бессознательной психики.
Несомненно, отправление правосудия — глубоко сознательная деятельность. Сознание же — сравнительно недавнее приобретение эволюции живых организмов. До этого живое обходилось без сознания, только рефлексами и физиологическими программами (пчелы, муравьи, птицы и т.д.). Поэтому с начала эволюции живого в каждой его особи генетически сформировались огромные ресурсы бессознательной психики. У людей и высших животных только небольшой верхний пласт психики составляет само сознание. Его особенность — осознавать только то, что содержится в нем самом. Содержание же сознания человека во многом определяется работой цензора — предсознательной психики, прослойки между бессознательной и сознательной частью психики, которая вытесняет, удаляет в бессознательное все, что так или иначе угрожает сознанию. С другой стороны, подсознательные влечения, заложенные генной программой, проникают в сознание сквозь цензора, трансформируясь в осознанные желания и мотивы, движущие поступками и решениями человека.
Возникает вопрос: что может угрожать сознанию и вытесняться из него? По нашему мнению, в психике заложены механизмы, вытесняющие из сознания то, что, будучи логически оценено осознающей личностью, дает ей отрицательную оценку в той или иной мере. Не случайно жестокие убийцы порой сами вершили суд над собой, если не становились сумасшедшими. Чаще всего к самоубийству человек приходит, сознательно, логически взвесив смысл дальнейшего существования, решив, что он не в силах более нести моральный груз.
Учитывая, что совершение ошибок в деятельности неизбежно, нормальная психика обладает защитой от деморализующего воздействия допущенных ошибок, вытесняя, забывая то, что угрожает сознанию. Так, например, замечено, что если нас обидели незаслуженно, то мы это долго помним, при случае опровергаем, а порой готовы отомстить. Если же критика была справедливой, то она быстро забывается.
Кроме описанного механизма вытеснения существуют и действуют другие мощные защитные механизмы: отрицание — уход в фантазию, отрицание какого-либо события как неправды; рационализация — бессознательная попытка оправдать, объяснить свое неправильное или абсурдное поведение, построение приемлемых моральных, логичных обоснований; инверсия или противодействие — подмена действия, мысли, чувств, отвечающих подлинному желанию, на диаметрально противоположные поведение, мысли, чувства; проекция — бессознательная попытка приписать другому человеку свои собственные качества, мысли, чувства; замещение — проявление эмоционального импульса переадресовывается от более угрожающего объекта или личности к менее угрожающему; изоляция — отделение угрожающей части ситуации от остальной психической сферы; регрессия — возвращение на более ранний, примитивный способ реагирования [4, с. 62 — 64].
Во многом судебные ошибки объясняются проявлением закономерностей психоаналитической теории ошибочных действий. К ошибочным действиям относятся: оговорки, когда вместо одного слова употребляют другое; описки, когда это происходит при письме; очитки, когда читают не то, что напечатано; ослышки, когда человек слышит не то, что ему говорят; забывание имени, намерения, запрятывание, затеривание, ошибки — заблуждения и т.д. [5, с. 12]. Все эти действия не связаны с физиологическими расстройствами и возникают тогда, когда внутренние побуждения человека приходят в противоречие с тем, что он должен совершить по роду деятельности. В этих случаях, как правило, глубокосознательная часть личности, называемая «Сверх-Я», — совесть, идеалы, убеждения — действует на бессознательном уровне и порой настолько фальсифицирует окружающее, что обыденное сознание не замечает очевидного.
Показателен интересный пример. Суд рассматривал дело о признании гражданина недееспособным. В период действия ГПК РСФСР слушания происходили в коллегиальном составе суда — председательствующий судья и два заседателя, с участием прокурора и представителя органа опеки и попечительства. Заявитель вел дело крайне небрежно: не указал место нахождения истории болезни сына, не являлся в суд, что повлекло оставление заявления без рассмотрения, после назначения экспертизы не принял мер к представлению больного экспертам. Через 1,5 года после пяти заседаний суд огласил решение в отсутствие заявителя. При этом все процессуальные правила были соблюдены: решение оглашено в зале судебного заседания, а в ходе разбирательства и при оглашении присутствовали кроме состава суда прокурор и представитель органа опеки и попечительства, т.е. пять независимых субъектов. Когда же, опять-таки по своей небрежности, через месяц заявитель получил решение, он обнаружил, что суд признал недееспособным не сына, а его самого. В этом случае бессознательная совесть каждого участника заседания посчитала недееспособным именно заявителя и не заметила описки в решении, так как он совершенно ненадлежащим образом и даже неадекватно относился к своим процессуальным правам и обязанностям, хотя с юридической точки зрения вопрос о его недееспособности никто не ставил. Не случайно, испытанное временем, наше процессуальное законодательство содержит институт исправления описок в решении.
Следует знать председательствующим судьям и учение о внутренних конфликтах человека. Так, например, межролевые конфликты — между социальными ролями профессионала и другими его социальными ролями — были замечены и изложены в отечественной литературе в 1977 [2, с. 26 — 27] и 1981 гг. [1, с. 76].
В жизни судья кроме роли профессионального председательствующего на процессе исполняет роль мужчины или женщины, сына или дочери, отца или матери, сестры или брата, потребителя товаров и услуг, пациента, нанимателя или собственника недвижимости, члена садового общества, водителя или пассажира автомобиля, возможно, преподавателя или аспиранта и т.п. Различное отношение к оцениваемым в юридическом процессе событиям, проистекающее от названных и иных ролей, формирует внутренний межролевой конфликт в подходах к оценке происходящего. Например, если председательствующий ранее в своей жизни являлся жертвой похитителей автомобилей или мошенников, то, рассматривая другие подобные деяния в процессе, он будет относиться к ним, возможно, иначе, чем тот судья, который в качестве потерпевшего в аналогичных событиях не участвовал. Решая жилищный или наследственный спор, размышляя над вопросами, кого следует признать членами семьи нанимателя жилого помещения, что значит «вести общее хозяйство», как оценить действия по принятию или непринятию наследства, судья волей или неволей обращается к личному опыту посредством погружения в иные социальные роли, которые он исполнял или исполняет.
Известен печальный пример, когда следователь прокуратуры передал обвиняемому, находящемуся под стражей, огнестрельное оружие для побега, поскольку в этом следователе внутренняя роль женщины, полюбившей обвиняемого, возобладала в межролевом конфликте над ролью стороны государственного обвинения.
Следует учитывать в работе судьи и большое влияние установки. Установка формируется элементами перцептивными, из представлений и восприятий (это хорошо, а это плохо), а также репродуктивными, воспроизведенными из памяти (будет так, как в прошлый раз). Таким образом, установка является следствием восприятия действительности, вступающим в противоречие с осмыслением и анализом событий в настоящем времени в ходе судебного разбирательства.
В ходе исследования, предпринятого Т.Г. Морщаковой, впоследствии судьей Конституционного Суда России, механизма воздействия психической установки на мыслительные процессы, на формирование ошибочных решений судьями были выявлены три основные группы судебных работников, допускавших типичные для них ошибки при рассмотрении уголовных дел.
Первые правильно устанавливали обстоятельства дела, но под влиянием установки о виновности подсудимого и обвинительного уклона, несмотря на наличие оснований для вынесения оправдательного приговора, не видели их и подписывали обвинительный приговор.
Вторые видели, что достаточные основания для вынесения обвинительного приговора отсутствуют, подсудимый должен быть оправдан, однако дело возвращали для проведения дополнительного расследования.
Третьи при недостаточности обвинения, подтвержденного в судебном заседании, участвовали в постановлении обвинительного приговора, но определяли меру наказания столь низкую, которая явно не соответствовала деянию, признанному совершенным [3, с. 473].
Психическая установка сопровождает любую деятельность человека, в том числе и судебную, и оказывает как положительное, так и отрицательное влияние.
Основываясь на сказанном, можно предложить председательствующим следующие рекомендации по предупреждению судебных ошибок.
- Надо объективно знать себя и свои собственные комплексы. В случае, когда разрешение дела их затрагивает, нужно обязательно вне судебного заседания и заблаговременно, до удаления в совещательную комнату, обсудить правовую ситуацию, не называя фамилий и точных наименований, с коллегами, на профессиональной учебе или с куратором.
- Если, принимая решение исходя из закона и обстоятельств, вы все же полагаете, что оно несправедливо, следует очень внимательно отнестись к проверке текста в резолютивной и окончательной формах, иначе собственные убеждения, срабатывая на бессознательном уровне, могут наделать «ошибок».
- Когда вы взволнованы или обижены действиями одной из сторон, нельзя поддаваться неприязни или симпатии, а необходимо постараться объективно оценить именно правовую ситуацию. Если замечено или известно из личного опыта, что эмоции берут верх, нужно сделать перерыв в процессе.
- Анализируя решения, которые отменены или изменены, следует обязательно записывать, хранить и помнить не только констатацию ошибки юридической, но и констатацию ошибки психологической. Например, констатация ошибки юридической — вынося заочное решение, суд должен убедиться, что в деле есть доказательства надлежащего извещения ответчика. Констатация ошибки психологической — не следует отрицательно относиться к ответчику, который не явился, и спешить выносить решение, хотя бы истец и говорил об ответчике плохо.
Литература
- Баев О.Я. Конфликты в деятельности следователя (вопросы теории). Воронеж, 1981.
- Котов Д.П., Шиханцов Г.Г. Психология следователя. Воронеж, 1977.
- Романов В.В. Юридическая психология: Учебник. М.: Юристъ, 2003.
- Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов н/Д: Феникс, 2000.
- Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. СПб.: Питер, 2001.
Не так давно меня пригласили выступить на Ковалевских чтениях в Екатеринбурге. Это мероприятие в основном посвящено проблемам уголовного права, но была и общая панель, посвященная судебным ошибкам. Тема моего выступления была такая: почему судьи арбитражных судов допускают ошибки при разрешении дел.
Ниже — текст моего выступления, переданный очень близко к тому, что я говорил. Автор текста — Екатерина Стихина
За приглашение участвовать в таком интересном мероприятии — большое спасибо Denis Puchkov.
* * *
— Семь лет своей жизни я провел в судебной системе, работал в аппарате Высшего арбитражного суда, не понаслышке знаю судейский корпус и вправе рассуждать о причинах судебных ошибок, которые допускают в арбитражных судах при рассмотрении гражданских споров. Для себя я выделяю пять ключевых причин появления судебных ошибок, которые потом обсуждаются в вышестоящих инстанциях.
Первая: к сожалению, правила Арбитражного процессуального кодекса требуют, чтобы суд огласил резолютивную часть судебного акта сразу после окончания слушаний. То есть стороны выступили, суд удаляется в совещательную комнату, потом выходит и провозглашает резолютивку. После этого суд должен в течение некоторого времени — которое установлено кодексом — написать полный текст судебного акта. Раньше я довольно часто слышал от коллег-судей, что дел у них очень много, а времени мало. За день, например, нужно рассмотреть 15 больших сложных споров.
Я успеваю полистать дело, у меня сложилось какое-то первое впечатление о нем, потом послушал стороны, удалился в совещательную сторону, вынес решение, огласил, — говорили судьи. — Начал отписывать решение, погрузился подробнее в детали, изучил документы… Черт! Я неправильно решил дело! Провозгласил неверное решение! Надо было отказывать в иске, а я его удовлетворил.
Можно ли упрекать судью в такой ошибке? Я думаю, нет. Это общий порок того, как устроено рассмотрение гражданских споров в России. Дел слишком много, судей мало, нагрузка на них чересчур большая. Кроме того, к огромному сожалению, процессуальные кодексы устанавливают краткие и неоправданные сроки для рассмотрения дел, в течение которых суд должен вынести решение. Это вообще стилистическая особенность именно российского гражданского процесса — устанавливать сроки для рассмотрения дел. А ведь хорошее правосудие не может быть быстрым. И уж тем более хорошее правосудие не может быть поставлено в жесткие рамки процессуальных сроков для рассмотрения дел.
То есть первую проблему можно эффективно решить, отказавшись от принципа обязательности оглашения судебного акта незамедлительно после окончания слушаний. Судье нужно дать время подумать, почитать, походить, возможно, пообсуждать с коллегами те правовые вопросы, над которыми он рассуждает.
Вторая причина ошибок связана с тем, что многие судьи, которые рассматривают гражданские дела, не всегда осознают отличия стандартов доказывания, которые есть в гражданском процессе и в уголовном. Так, уголовный процесс основан на стандарте доказывания «Вне всяких разумных сомнений». То есть не должно остаться никаких сомнений в том, что подсудимый виновен.
В гражданском процессе стандарт доказывания совсем другой — «Баланс вероятности». То есть скорее был факт, чем его скорее не было. Скорее да, чем скорее нет. Скорее директор действительно подписал этот договор, чем скорее не подписывал. Скорее товар был передан, чем не был.
Мы видим огромную проблему в том, что судьи, которые разбирают гражданские дела, допускают смешение стандартов доказывания. И в первую очередь — в делах о взыскании убытков. Наша судебная практика на протяжении полутора десятков лет пришла к тому, что стандарт доказывания в делах о взыскании убытков был, по сути, задран до того же стандарта, что используется в уголовных делах. Итог очень простой: истец никогда не может доказать убытки. И получается, что самый главный иск в арбитражном суде, иск кредитора о возмещении причиненных ему убытков, — практически проигрышная история.
Если посмотреть судебную статистику по спорам о взыскании убытков, особенно на их удовлетворяемость, она смехотворна! Такого не может быть в нормальном развитом правопорядке.
Третья причина судебных ошибок — это относительно невысокая культура структурирования судебных текстов. Как устроено решение по гражданскому делу сегодня в России: это, как правило, сплошной текст. В лучшем случае мы увидим разделение на абзацы, но никаких частей типа «позиция истца», «позиция ответчика», «позиция суда».
Если мы возьмем, например, акты вышестоящих судебных инстанций, то тоже не увидим деления на блоки: позиция нижестоящего суда; причины, по которым вышестоящий суд не согласился с нижестоящим. Суды просто вываливают на нас сплошной текст на 10-15-20-30 страниц, в котором нет элементарной культуры письменной речи — разделения на смысловые блоки!
А когда ты пишешь такой текст, то ошибиться намного легче. Проще пропустить какие-то аргументы, которые были выдвинуты стороной, замолчать их. И наоборот: если в тексте вы указываете: «У истца было пять аргументов», и дальше, как судья, анализируете: «Первый не подходит потому-то, второй отклоняется по такой причине», то вероятность ошибки намного меньше.
Мы до сих пор не научились писать судебные акты правильно и красиво, и это, в том числе, порождает то, что судьи невнимательно относятся к аргументам сторон, просто иногда замалчивают их, и поэтому допускают ошибки.
Четвертая причина тоже связана с культурой письменной речи, а именно, с культурой написания судебных актов с содержательной стороны.
К огромному сожалению, суды боятся открытых рассуждений. Очень редко когда судья имеет смелость написать: «Свидетель такой-то сказал то-то, но я ему не доверяю, потому что он нервничал, у него бегали глаза. Поэтому те показания, что он дал, скорее всего, недостоверны». Наши судьи не пишут судебные акты от первого лица — я.
Такая деперсонализация, деидентификация судебных актов просто приводит к тому, что судья отстраняется от результата своего творчества, своего детища, и не так тщательно относится к тому, как этот акт будет выглядеть, как будут воспринимать его читатели. (Например, я когда пишу решения по делам, где я выступаю в качестве арбитра, я всегда пишу текст от первого лица «я полагаю», «мне представляется», «меня не убедило» и т.д.).
Давайте возьмем средний акт по гражданскому делу! Что это такое? Это изложение обстоятельств дела, дальше вы увидите 10-15 абзацев, где будут просто процитированы нормы Гражданского кодекса. Например, «в соответствии со статьей 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом». Как будто мы не знаем, что написано в статье 309 ГК! Зачем это писать? Какой смысл в простом цитировании нормативных актов?
И мы видим пулеметную очередь из абзацев-цитат законов и дальше: «На основании изложенного суд решил». А где логика? Где рассуждения? Как мы поймем, что суд действительно вывел из неких законоположений какое-то умозаключение?
Есть исключения из этого правила, конечно. Но, к сожалению, подавляющее большинство текстов, которые сегодня выносят суды по гражданским спорам, на мой взгляд, не очень убедительны.
И последняя причина ошибок, которые могу допускать судьи, кроется в принципе рекрутинга судейского корпуса.
Не секрет, что основной источник пополнения штата судей в арбитражных судах — это помощники, бывшие секретари судебных заседаний. И, по большому счету, карьера судьи такова: секретарь — помощник — судья. При рекрутинге судей очень опасливо относятся к юристам, которые пришли извне, не работавшим в судебной системе. Мне, например, неизвестны случаи, когда судьями арбитражных судов становились люди, имеющие за плечами практический опыт работы юрисконсультами или адвокатами.
Я не хочу сказать, что помощники судей как судьи хуже, чем бывшие адвокаты. Я хочу просто подчеркнуть: когда карьерная лестница, по которой человек пришел к должности судьи и надел мантию, не содержит в себе опыта практической юриспруденции, такому судье при рассмотрении коммерческих споров будет сложно. Ведь он не знает коммерческой жизни.
При том что в спорах, которые рассматриваются в арбитражных судах, поднимаются сложнейшие вопросы, связанные с банкротством, с привлечением к субсидиарной ответственности лиц, которые довели компанию до несостоятельности. С оспариванием сделок, с привлечением к ответственности директоров, которые действуют во вред интересам компаний. На мой взгляд, крайне тяжело разрешать такие споры правильно, если у тебя нет практического бэкграунда.
Если ты не знаешь бизнес-жизнь изнутри, ее изнанку, не имеешь представления, принято ли в бизнесе делать то, что делал директор, можно ли совершать такие сделки в тех условиях, в каких находился он, как ты можешь выносить суждение о том, действительно ли глава компании действовал против ее интересов?!
Поэтому, к огромному сожалению, ошибки в делах, связанных с непременным наличием бизнес-опыта у того, кто рассматривает спор, завязаны на технологию формирования судейского корпуса. А она сегодня является в России доминирующей.
Материал написан на основе выступления на XVI Международной научно-практической конференции «Ковалевские чтения». http://ekb.dk.ru/news/pyat-prichin-strashnyh-oshibok-sudey-v-arbitrazhah-pochemu-vy-nikogda-ne-dokazhete-svoi-ubytki-237118065?fbclid=IwAR2vVi5ZT-g0YXhSXDN5K7jPbnW6BZvS6MnjTZKkNsk3ihRkXss6xMqFMZY