Слово «апофатика» надо понимать здесь в том же
смысле, В каком понимал его Дионисий Ареопагит. Он
говорил, что есть два пути Богопознания — катафатический и
апофатический. Первый путь — отнесение к Богу некоторых
положительных определений, наделение Его кажущимися нам
подобающими Ему предикатами, вроде «Всемогущий»,
«Вездесущия», «Благой» и так далее.
Это — ответ на вопрос «Что есть Бог?». Второй
путь — осознание всех относимых к Богу предикатов как
неточных или ложных и их последовательное отбрасывание с
целью получении все более полного ответа на вопрос
«Что Бог не есть?» и погружения в конце концов в
«Божественный мрак», из которого затем
таинственным образом выступит подлинный образ Бога,
невыразимый в человеческом языке. Апофатический метод, по
Дионисию, гораздо выше катафатического, только эта
интеллектуальная аскеза подобная экзистенциальной аскезе
преподобных, может открыть нам Истину.
Принято думать, что апофатика есть гносеология специально
богословская, и к научному познанию она неприменима. Это
большое заблуждение. Уже при самом возникновении
европейской науки один из ее отцов-основателей, Френсис
Бэкон, провозгласил апофатический метод главным научным
инструментом, призывая ученых сосредоточивать внимание не
на тех фактах, которые подтверждают их теории, а на тех,
которые с ними несовместимы. Детализируя эту установку, он
разработал целую программу изгнания «идолов»,
т.е. ложных представлений о мире. Он разделил их на четыре
большие группы по признаку их происхождения, т.е. причины,
по которой они возникают.
1. Идолы рода — ошибки, связанные со
специфическими особенностями восприятия и мышления,
свойственными всем людям вообще, всему человеческому роду.
В этом пункте он предвосхитил априоризм Канта, но в
отличие от последнего не мирился с ним, а предлагал его
преодолевать.
2. Идолы пещеры — ошибки, связанные с
психологическими особенностями определенных людских групп,
со спецификой сословного или профессионального
менталитета. Здесь тоже можно уловить предвосхищение, но
уже не Канта, а Маркса, утверждавшего, что мировоззрение
имеет классовый характер.
3. Идолы рынка — ошибки, проистекающие от
несовершенства языка, в частности, от многозначности
смысла слов.
4. Идолы театра — ошибки, порождаемые следованию
авторитетам и доверию к общепринятым мнениям.
Заметим, что Бэкон призывает освобождаться от ложных
суждений заранее, не дожидаясь того, когда им на смену
явятся верные суждения. Как и Дионисий, он предполагает,
что после освобождения от лжи начнется процесс заполнения
образовавшейся пустоты правдой.
Эта программа тотального очищения сознания была не только
провозглашена, но и исполнена, другой основатель науки,
Рене Декарт, перед тем, как начать строить свою систему
мира, отбросил как недостоверное абсолютно все, кроме
единственного тезиса «Я мыслю, следовательно я
есть». Бэконовская апофатика была взята на вооружение
и другими пионерами науки и приносила обильные плоды. Она
заключала в себе глубокий культурно-исторический смысл.
Вспомним, как и почему возникла европейская наука, science
. Ее появление было результатом действия двух факторов:
протестантизма и порожденного им капитализма. Капитализм
потребовал такого изучения материи, которое максимально
способствовало бы ее утилизации, развитию промышленных
технологий, а для этого надо было исследовать материю саму
по себе, как если бы она была субстанцией. Протестантизм
дал на это свое благословение. Но сделать это было не
просто, ибо в действительности она субстанцией не является
— ее бытие производно от Творца и Вседержителя. Тварь и
Творец так тесно сплелись в христианском сознании, что
стали неотделимыми друг от друга. Такой тип сознания
выработался в русле схоластического богословия и нашел
свое окончательное выражение в учении Фомы Аквинского, где
принцип «Вера выше разума» дополнялся
всеобъемлющим систематизаторством аристотелевского
«Органона». Нельзя было выкинуть первое и
сохранить второе, поэтому Бэкон и потребовал выкинуть все
и нарочито назвал свое сочинение «Новый
органон», как бы отменяя Аристотеля. Только начав с
нуля можно было осуществить «коперниканскую
революцию» , состоявшую в помещении в фокус внимания
не Творца, как прежде, а твари, и в выведении Творца на
периферию. Вначале ученые еще видели Его боковым зрением,
но потом Он выпал и оттуда, и материя обрела полноценный
статус субстанции. На этой идейной основе, превратившейся
из методологической в мировоззренческую, и прошла весь
свой четырехсотлетний путь великая европейская наука.
Сегодня этот цикл завершается и возникает ситуация,
симметричная той, какая была при Бэконе. В своем
длительном изучении материи наука добралась до таких
рубежей, где автономия материи явно заканчивается и
начинает ощущаться присутствие ее Творца, создавшего ее
для определенных целей и имеющего какие-то планы
относительно ее будущей судьбы. Все то, что мы могли
выяснить о ней в рамках презумпции ее субстанциональности,
уже выяснено, и эта презумпция становится препятствием для
дальнейшего продвижения вперед. Но она за это время так
пропитала всю концептуальную составляющую науки, что уже
невозможно сказать: вот тут и сидит эта презумпция, а
здесь ее нет. Поэтому, если мы хотим идти в познании
тварного мира дальше, у нас нет другого выхода, как
совершить «обратную коперниканскую революцию» и
начать отказываться от того, что именуется «научной
картиной мира», в центре которой изображена сидящая
на троне священная материя, сохраняя в своем распоряжении
лишь экспериметнально-наблюдательный материал и
наработанные технологии. Для этого нам необходимо
сконцентрировать свой взор не на том, что существующие
теории могут объяснить, а на том, чего объяснить они
принципиально не способны. Это и будет та апофатика, о
которой у нас с вами идет речь.
Все разумное, если и не изначально действительно, то рано
или поздно становится действительным, поэтому можно не
сомневаться, что наука в относительно недалеком будущем
непременно повернет к апофатике. Объективная нужда и этом
повороте, помимо интересов развития знания,
обуславливается и тем, что, выйдя за пределы той
ограниченной области, где она имела прагматическое
оправдание, доктрина субстанциальности материи все более
отравляет нашу цивилизацию, причем не только в умственном,
но даже и в нравственном отношении. Стремление во что бы
то ни стало уйти от телеологии создает в науке авгиевы
конюшни лжи и подтасовок, приводит к снижению критериев
доказательности. Сейчас мы скатились к тому, что
материалистической теории достаточно соответствовать
фактам лишь в одном пункте из десяти, чтобы она была
признана верной: мы радостно ухватываемся за единственное
подтверждение и закрываем глаза на все, что ее
опровергает. Конечно, это не может не развращать умы и
души, отнимая у человеческой мысли главное ее достоинство:
самокритичность и придирчивую требовательность к
обоснованности своих заключений. Страх перед появлением
даже тени внешнего творческого начала в картине мира,
подобный известным «фобиям» психиатрии, делает
нынешнего ученого почти шизофреником, предающимся глупым,
но идейно выдержанным фантазиям вместо честного осмысления
бытия.
Одним из самых ярких примеров такого фантазирования служит
дарвинизм — этот гнойник в теле науки и культуры. Для
избежания терминологических недоразумений сразу скажем,
что в дальнейшем будем понимать под
«дарвинизмом» утверждение, что зафиксированное в
палеонтологической летописи восхождение живых форм от
простых к более сложным происходило под действием только
двух факторов: небольших случайных отклонений признаков
потомков от признаков родителей (изменчивости) и
естественного отбора. Это — наиболее краткая и полная
формулировка принципа субстанциальности в применении к
биологической материи, или, как выражаются
философы-материалисты, ее саморазвития. И какими бы
мудреными ни были названия современных эволюционных
теорий, после очищения от шелухи в них обнаруживается
именно эта исходная аксиоматика. А она представляет собой
такую же наивную выдумку, как объяснение ирокезами темного
пятна на Луне тем, что их далекий предок забросил туда
свой томагавк. И для того, чтобы увидеть абсурдность
дарвинизма вовсе не нужно знакомиться со всеми
квалифицированными возражениями против него, которые
выдвигали крупнейшие специалисты от Агассиса, Бэра и
Вирхова до Данилевского, Берга и Мейена, а достаточно лишь
поставить три вопроса, суть которых понятна каждому
человеку.
1) Если движущая сила эволюции видов — адаптация к среде,
то почему эволюция идет от простых форм к сложным, а не
наоборот: ведь простенькие существа гораздо живучее
сложных. Таракан приспосабливается к широкому диапазону
условий, он почти неистребим, а вот носорог легко раним и
капризен, его самка рожает раз в три года
одного-единственного детеныша. По логике дарвинизма все
носороги должны были бы давно превратиться в тараканов, но
ведь на деле произошло нечто противоположное — древние
козявки, подобные нашим тараканам, уступили место
носорогам. Почему?
2) Совершенно очевидно, что точки жизнеспособности в
многомерном пространстве признаков отстоят друг от друга
на больших расстояниях, ибо, чтобы жить на земле, вид
нуждается в тончайшей согласованности всех своих признаков
— веса, роста, толщины кожи, волосяного покрытия, формы,
рефлексов, типа метаболизма, принципа действия иммунной
системы и тысяч и тысяч других. Как же один вид может
эволюционно превратиться в другой, если для этого один
согласованный набор признаков должен сначала разладиться и
уже потом достичь нового взаимного сбалансирования? Ведь
как только исходная подгонка будет отменена, вид тут же
вымрет. Говорить, что ящерица постепенно превратилась в
птицу, так же нелепо, как утверждать, будто опера
«Пиковая дама» возникла в результате накопления
случайных ошибок, сделанных переписчиками «Волшебной
флейты». Как только число таких ошибок достигнет
критического уровня, никто получившуюся какофонию слушать
не станет, и процесс «эволюции» сам собой
оборвется.
3) Всякому, кто хоть раз был в лесу или наблюдал за жизнью
болота, очевидно, что выживают не отдельные виды, а
большие симбиозы видов, биоценозы. На этом основании
Вернадский выдвинул гипотезу постоянства биомассы, сейчас
подтвержденную и данными о процентном содержании в
отложениях изотопа серы, предпочтительно усваимого живыми
организмами. Даже на самых ранних этапах эволюции объем
живой материи планеты был таким же, как сегодня. Откуда же
он взялся, если даже по признанию самих дарвинистов
превращение неживого в живое требовало совершенно
исключительных совпадений многих факторов? Ведь такое
счастливое сочетание может возникнуть в одном месте и один
раз, а не сразу на всей земле.
Пока дарвинисты не ответили на эти вопросы так же ясно и
доходчиво, как они заданы, нас не должны интересовать
никакие их статьи и монографии а поскольку такие ответы
невозможны, все то, что написано за 150 лет о саморазвитии
живых форм, надо выбросить за борт цивилизации как
ненужный и отягощающий балласт.
Это и есть апофатика: придирки к тому, что не проходит по
фактам и логике. То, что мы сейчас показательно применили
по отношению к дарвинизму, надо применять везде и всюду,
где мы хотим что-то понять. Апофатика должна стать (и,
конечно же, скоро станет) повседневной нормой познающего
мир ученого.
Как изменится наша культурная традиция, когда апофатика
действительно станет нормой? Никакого катаклизма не
произойдет, но многое будет выглядеть иначе. Например, в
школьных учебниках будет написано: «О происхождении
нефти в былые времена выдвигались две гипотезы:
органическая и неорганическая, и их сторонники вели между
собой жаркие споры, похожие на споры тупоконечников я
остроконечников у Свифта. В наш век истинного знания стало
ясно, что ни одна из этих гипотез не верна, и наличие в
земле нефти остается великой тайной, которая может быть со
временем откроется, а может быть я нет». Чувствуете,
как это будет умно и скромно, как благотворно будет влиять
на воспитание детей! Что же касается «большой
науки», которая сильно сократит свои кадры, ныне
раздутые до совершенно ненужных размеров, то названия
диссертаций и публикаций будут примерно такими:
«О принципиальной невозможности классификации
элементарных частиц на базе теории групп» или
«Эквивалентность объема непознаваемости феномена
Жанны д’Арк и мироточения икон». Когда мы
привыкнем к таким здравым подходам к познанию, двадцатый
век с его помешавшейся на построении универсальных моделей
катафатической наукой будет восприниматься нами как
мрачная эпоха претенциозности разума, приведшей к потере
интеллектуальной честности.
Это — об институциональной стороне апофатики. Но в ней
есть еще и персональный аспект. По-настоящему ценные
научные открытия всегда рождаются в головах индивидуумов.
Гений — это всегда личность, род пророка. Так вот; когда
наука вступит в апофатическую фазу, у нас сразу появятся
гении, которых в последнее время что-то не видать. Почему
можно сделать такой прогноз?
Дело в том, что насчет своих «идолов» Бэкон был
прав: рассудок человека, его логика и его язык не
приспособлены для постижения сущностных характеристик
мироздания, ибо они формировались для ориентировке в сфере
явлений, а сущности лежат в ноуменальной сфере, образуя в
своей совокупности то, что называется истиной. Рассудок,
логика и язык составляют наше «дневное
сознание», специфика которого обусловливается корой
головного мозга, преобразующей сенсорную информация таким
образом, чтобы она позволяла быстро принять поведенческое
решение. Но кроме него в нас есть и «ночное
сознание», соответствующее «докорковой»
части центральной нервной системы, и оно гораздо
восприимчивее к сущностям, а значит и к истине, чем разум.
Однако, обычно оно заглушается дневным сознанием, ибо оно
самоуверенно и крикливо, а истина бежит от крика.
«Большой и сильный ветер, раздирающий горы и
сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре
Господь:после ветра землетрясение, но не в землетрясении
Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь;
после огня веяние тихого ветра, и там Господь» (5
Цар. 19, II). Точно так же в безмолвии апофатики ученый
услышит негромкий голос истины и передаст услышанное
людям. Так отрицательное познание непостижимым путем
перейдет в положительное.
Говоря современным языком, Фрэнсис Бэкон был одним из первых, кто описал типовые ошибки мышления при рассуждениях, решении научных задач.
«Что же касается опровержения призраков, или идолов, то этим словом мы обозначаем глубочайшие заблуждения человеческого ума. Они обманывают не в частных вопросах, как остальные заблуждения, затемняющие разум и расставляющие ему ловушки; их обман является результатом неправильного и искаженного предрасположения ума, которое заражает и извращает все восприятия интеллекта. Ведь человеческий ум, затемнённый и как бы заслоненный телом, слишком мало похож на гладкое, ровное, чистое зеркало, неискаженно воспринимающее и отражающее лучи, идущие от предметов; он скорее подобен какому-то колдовскому зеркалу, полному фантастических и обманчивых видений. Идолы воздействуют на интеллект или в силу самих особенностей общей природы человеческого рода, или в силу индивидуальной природы каждого человека, или как результат слов, т. е. в силу особенностей самой природы общения.
Первый вид мы обычно называем идолами рода, второй — идолами пещеры и третий — идолами площади. Существует ещё и четвертая группа идолов, которые мы называем идолами театра, являющихся результатом неверных теории или философских учений и ложных законов доказательства.
Но от этого типа идолов можно избавиться и отказаться, и поэтому мы в настоящее время не будем говорить о нем. Идолы же остальных видов всецело господствуют над умом и не могут быть полностью удалены из него. Таким образом, нет оснований ожидать в этом вопросе какого-то аналитического исследования, но учение об опровержениях является по отношению к самим идолам важнейшим учением. И если уж говорить правду, то учение об идолах невозможно превратить в науку и единственным средством против их пагубного воздействия на ум является некая благоразумная мудрость. Полное и более глубокое рассмотрение этой проблемы мы относим к Новому Органону; здесь же мы выскажем лишь несколько самых общих соображений».
Фрэнсис Бэкон, Великое Восстановление Наук, Сочинения в 2-х томах, Том I, М., «Мысль», 1977 г., с. 307-311.
Очищенное от всяких «идолов» восприятие Ф. Бэкон называл «чистым опытом».
Идолы рода
Идолы пещеры
Идолы площади
Идолы театра
Инерция мышления по Г.С. Альтшуллеру
Слайды и текст этой презентации
Слайд 1Теория «идолов» познания Бэкона
Выполнила:
Батракова Тамара
ДЭБ-302
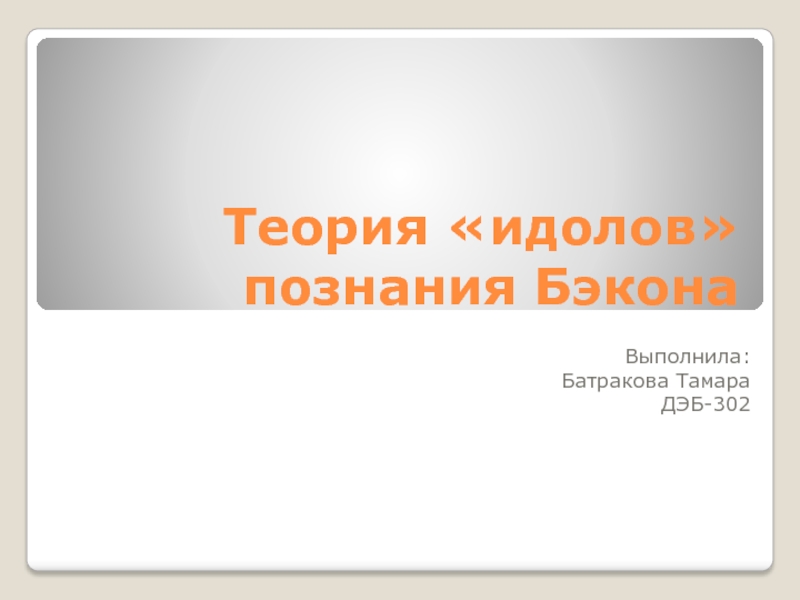
Слайд 2 Френсис Бэкон
(22 января 1561 – 9 апреля 1626)
Английский философ,
политический деятель, историк, основоположник эмпиризма.
Бэкон начал свою профессиональную деятельность как юрист,
но позже стал широко известен как адвокат-философ и защитник научной революции.
Свой подход к проблемам науки Бэкон изложил в трактате «Новый органон», вышедшем в 1620 году. В этом трактате он провозгласил целью науки увеличение власти человека над природой, которую определял как бездушный материал, цель которого — быть использованным человеком.
Бэкон создал двухбуквенный шифр, называемый теперь шифр Бэкона.
Существует не признанная научным сообществом «бэконианская версия», приписывающая Бэкону авторство текстов, известных под именем Шекспира.
Умер в 1626 г., простудившись, когда набивал курицу снегом, чтобы доказать, что холод обеспечивает сохранение мяса от порчи, и тем самым продемонстрировать силу разрабатываемого им экспериментального научного метода.
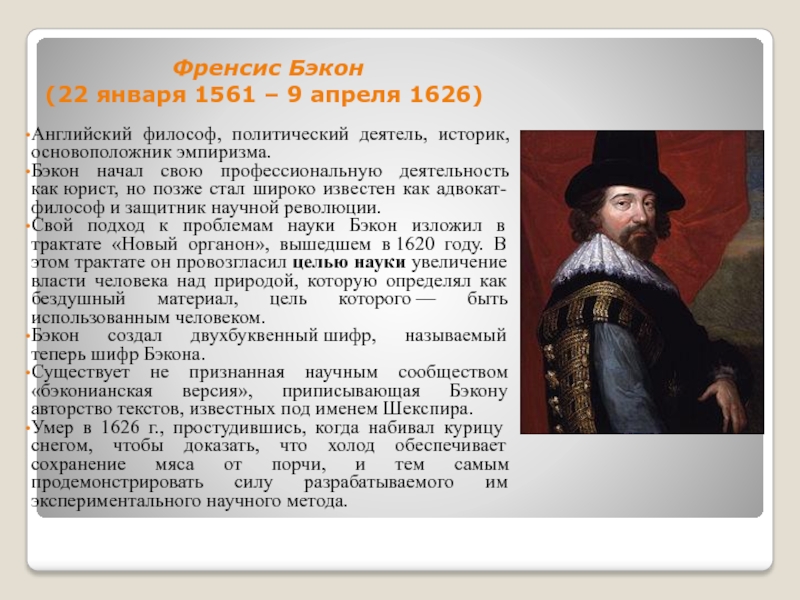
Слайд 3Наука, по Бэкону, должна дать человеку власть над природой, увеличить
его могущество и улучшить его жизнь. Он критиковал схоластику и
её силлогистический дедуктивный метод, которому он противопоставил обращение к опыту и обработку его индукцией, подчёркивая значение эксперимента.
Взгляды Бэкона сформировались на основе достижений натурфилософии Возрождения и включали в себя натуралистическое миросозерцание с основами аналитического подхода к исследуемым явлениям и эмпиризмом. Он предложил обширную программу перестройки интеллектуального мира, подвергнув резкой критике схоластические концепции предшествующей и современной ему философии.
Бэкон стремился привести «границы умственного мира» в соответствие со всеми теми громадными достижениями, которые происходили в современном Бэкону обществе XV-XVI веков, когда наибольшее развитие получили опытные науки.
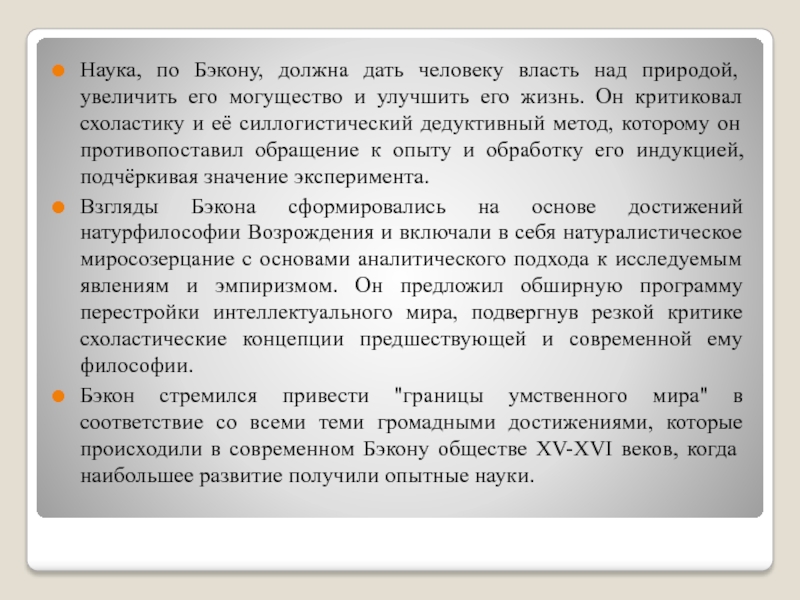
Слайд 4Понимание науки у Бэкона включало, прежде всего, новую классификацию наук,
в основу которой он положил такие способности человеческой души:
как память
воображение
(фантазия)
разум.
Соответственно этому главными науками, по Бэкону, должны быть история, поэзия, философия. Высшая задача познания всех наук, согласно Бэкону, — господство над природой и усовершенствование человеческой жизни

Слайд 5Знание — сила, но только такое знание, которое истинно
Бэкон проводит
различение двух видов опыта: плодоносного и светоносного.
Первый — это
такие опыты, которые приносят непосредственную пользу человеку, светоносный — те, цель которых состоит в познании глубоких связей природы, законов явлений, свойств вещей.
Второй вид опытов Бэкон считал более ценными, так как без их результатов невозможно осуществить плодоносные опыты.
Недостоверность получаемого нами знания обусловлена, считает Бэкон, сомнительной формой доказательства, которая опирается на силлогистическую форму обоснования идей, состоящую из суждений и понятий.
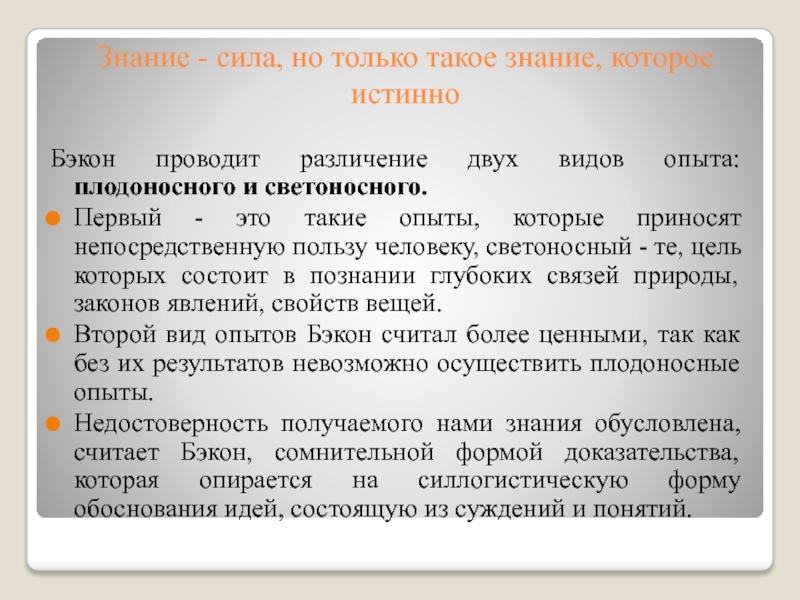
Слайд 6«Идолы» Бэкона
Как философ Френсис Бекон считал, что познанию и приобретению
новых знаний человеку мешают такие четыре основных факторы, которые он
называет идолами или призраками:
1. Призраки рода
2. Призраки пещеры
3. Призраки базара
4. Призраки театра.
Первый два идола/призрака должны принадлежать самой природе человека от рождения, а два остальных – приобретаются им в процессе взросления и схоластического обучения.
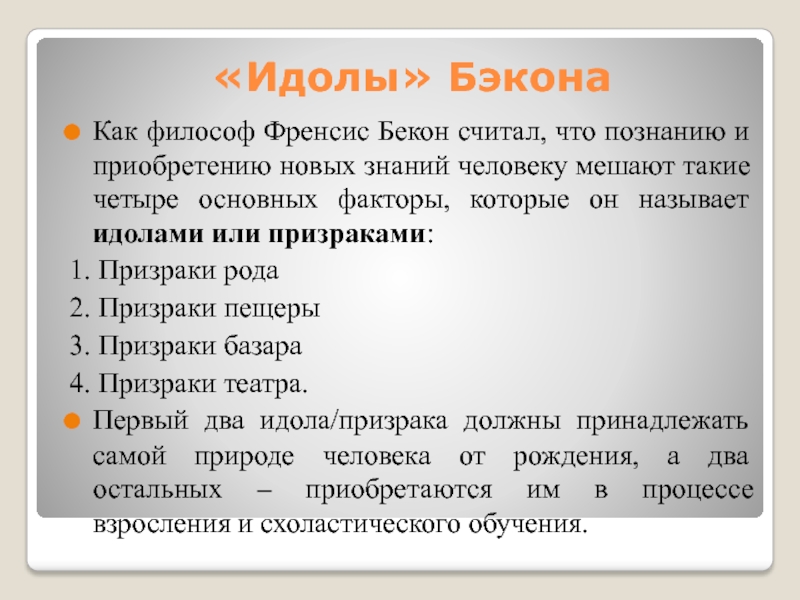
Слайд 7Идолы рода
Это ошибки, обусловленные наследственной природой человека. Мышление человека имеет
свой недостатки, т.к. «уподобляется неровному зеркалу которое, примешивая к природе
вещей свою природу отражает вещи в искривленном и обезображенном виде».
Человек постоянно истолковывает природу по аналогии с человеком, что находит свое выражение в теологическом приписывании природе конечных целей, которые ей несвойственны. В этом и проявляются идолы рода. К идолам рода Бэкон относит и стремление человеческого ума к необоснованным обобщениям. Он, например, указывал, что часто орбиты вращающихся планет считаются некруговые, что необоснованно.

Слайд 8Идолы пещеры
Это ошибки, которые свойственны отдельному человеку или некоторым группам
людей в силу субъективных симпатий, предпочтений.
Например, одни исследователи верят
в непогрешимый авторитет древности, другие склонны отдавать предпочтение новому. «Человеческий разум не сухой свет, его окропляют воля и страсти, а это порождает в науке желательное каждому. Человек скорее верит в истинность того, что предпочитает… Бесконечным числом способов, иногда незаметных, страсти пятнаются и портят разум».
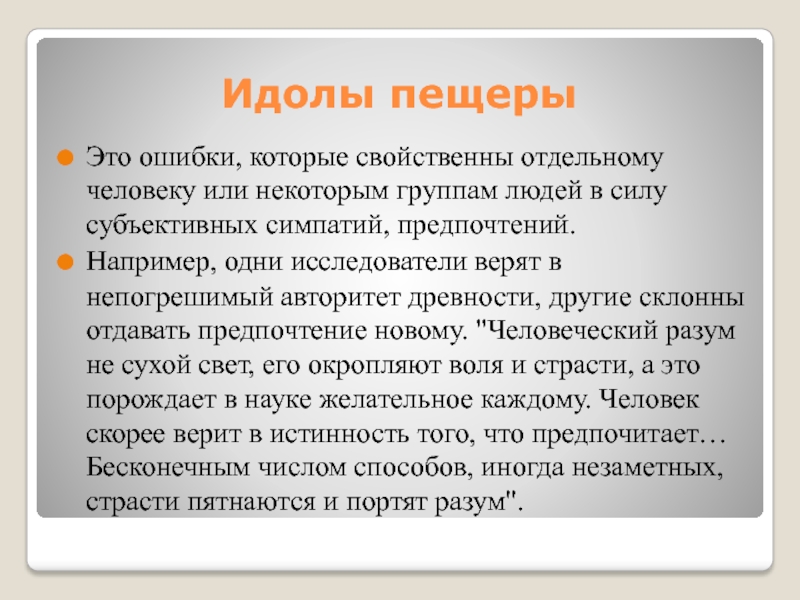
Слайд 9Идолы площади (рынка)
Это ошибки, порождаемые речевым общением и трудностью избежать
влияния слов на умы людей. Эти идолы возникают потому, что
слова — это только имена, знаки для общения между собой, они ничего не говорят о том, что такое вещи. Поэтому и возникают бесчисленные споры о словах, когда люди принимают слова за вещи.

Слайд 10Идолы театра (теорий)
Это ошибки, связанные со слепой верой в авторитеты,
некритическим усвоением ложных мнений и воззрений.
Здесь Бэкон имел ввиду
систему Аристотеля и схоластику, слепая вера, в которые оказывала сдерживающее воздействие на развитие научного знания. Он называл истину дочерью времени, а не авторитета. Искусственные философские построения и системы, оказывающие отрицательное влияние на умы людей, — это, по его мнению, своего рода «философский театр».
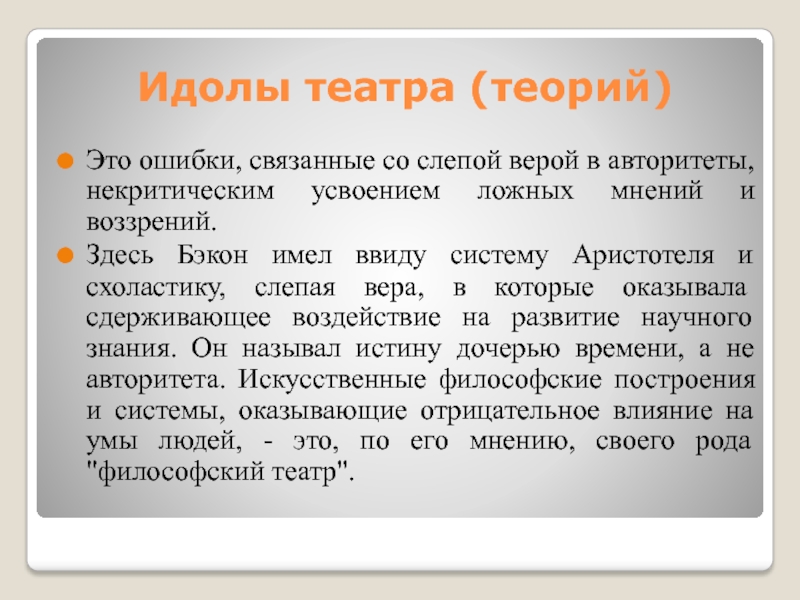
Слайд 11Учение об идолах предвосхищает многие положения современной методологической теории и
социальной психологии. Бэкон настаивает здесь на том, что мы имеем
все основания не доверять собственным убеждениям, принимая во внимание известные нам типы интеллектуальных ошибок. Позиция Бэкона совершенно недвусмысленна: теория познания способна приносить пользу, подавая практические гносеологические советы, лишь в том случае, если она обращает пристальное внимание на человеческую психологию.

Слайд 12Бекон твёрдо стоял на позициях сенсуализма, а отсюда и эмпиризма.
Он считал, что чувства дают нам верные представления о действительности,
что знания добываются нами опытным (эмпирическим) путём. «Только чувство, — писал он, — может судить об опыте, а опыт, в свою очередь, заключается в самом предмете».
Благодаря информации чувств в сознании человека формируются сначала обобщенные представления, а затем – понятия. Отсюда, образы предметов, входя через органы чувств, не исчезают, а сохраняются душой, которая может относится к ним трояким образом: или собирать их в памяти, или подражать им воображением, или, наконец, перерабатывать их в понятия рассудком.
На этих трех способностях человеческой души, согласно Бекону, основывается подразделение наук. Память является основанием исторических наук, воображение – поэзии, а рассудок – философии.
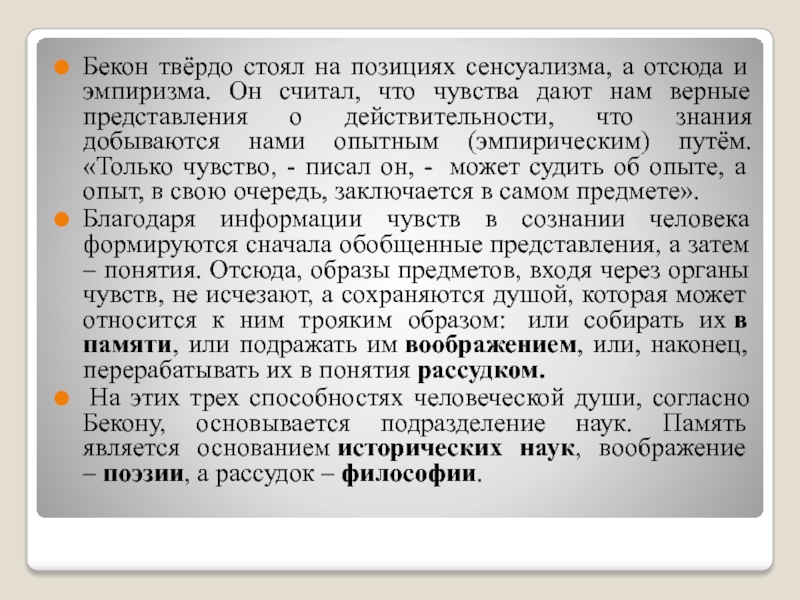
Слайд 13Бекон в тоже время предостерегал исследователей от крайностей как чисто
опытного накопления сведений, так и от исключительного умственного похода к
познанию природы. Наука, утверждал он, исходит из опыта, но не зацикливается на нем. Стихийный опыт не дает человеку знаний.
Эмпирика, который довольствуется только накоплением опытных фактов, он уподоблял муравью, который из собираемых обломков стебельков может только нагромоздить рыхлую кучу, а рационалиста, который путём «внутреннего» размышления ищет непререкаемую истину, — пауку, который извлекает паутину из своего заднего прохода. Настоящий же ученый подобен пчеле, которая со множества цветов собирает нектар, перерабатывает его в себе и выдает живительный, сладкий мёд.

Слайд 14Новая Атлантида
В конце своей жизни Бэкон написал книгу об утопическом
государстве «Новая Атлантида» . В этом произведении он изобразил будущее
государство, в котором все производительные силы общества преобразованы при помощи науки и техники. В нем Бэкон описывает различные удивительные научно-технические достижения, преображающие жизнь человека: здесь и комнаты чудесного исцеления болезней и поддержания здоровья, и лодки для плавания под водой, и различные зрительные приспособления, и передача звуков на расстояния, и способы улучшения породы животных, и многое. Некоторые из описываемых технических новшеств осуществились на практике, другие остались в области фантазии, но все они свидетельствуют о неукротимой вере Бэкона в силу человеческого разума.
На современной языке его можно было бы назвать технократом, т.к. он полагал, что все современные ему проблемы можно решить с помощью науки.
Несмотря на то, что он придавал большое значение науке и технике в жизни человека. Бэкон считал, что успехи науки касаются лишь «вторичных причин», за которыми стоит всемогущий и непознаваемый Бог. При этом Бэкон все время подчеркивал, что прогресс естествознания, хотя и губит суеверия, но укрепляют веру. Он утверждал, что «легкие глотки философии толкают порой к атеизму, более же глубокие возвращают к религии».

Наши Идолы
Френсис Бэкон, философ, историк XVI-XVII вв. Основоположник эмпиризма.
По его мнению, на пути познания стоят четыре типа ошибок, которые он назвал «идолами» (лат. «idola»):
- «Идолы рода» проистекают из самой человеческой природы, они не зависят ни от культуры, ни от индивидуальности человека. «Ум человека уподобляется неровному зеркалу, которое, примешивая к природе вещей свою природу, отражает вещи в искривлённом и обезображенном виде».
- «Идолы пещеры» — это индивидуальные ошибки восприятия, как врожденные, так и приобретённые. «Ведь у каждого помимо ошибок, свойственных роду человеческому, есть своя особая пещера, которая ослабляет и искажает свет природы».
- «Идолы площади» — следствие общественной природы человека, — общения и использования в общении языка. «Люди объединяются речью. Слова же устанавливаются сообразно разумению толпы. Поэтому плохое и нелепое установление слов удивительным образом осаждает разум».
- «Идолы театра» — это усваиваемые человеком от других людей ложные представления об устройстве действительности. «При этом мы разумеем здесь не только общие философские учения, но и многочисленные начала и аксиомы наук, которые получили силу вследствие предания, веры и беззаботности».
Все мы и сейчас частенько находимся в плену этих «идолов».
«Идолы рода»? Даже зрение подводит — то, что мы полагаем, что видим, на деле состоит на 3/4 из додумок и воспоминаний. Всем известны оптические иллюзии. Грамотный человек не доверяет всецело своим чувствам, потому что знает — они могут подвести.
«Идолы пещеры» — обычное дело. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но если не осознавать, что можешь ошибаться, легко попасть в плен этому идолу.
А сколько мутного было придумано под влиянимем «идолов площади», подумать страшно. Всего два примера: битвы за значение слов «Свобода» и «Любовь». Слова — всего лишь слова. Ярлыки, произвольно наклеиваемые на наше восприятие мира («идолы рода» тоже в стороне не остаются). Спор о словах без привлечения «сенсорной очевидности», проверяемой и доступной эксперименту — бессмыслица.
Ну и «идолы театра» смотрят на нас глазами экспертов со всяческих СМИ и кухонь. Лекарство — критическое сопоставление и самостоятельная оценка. Даже если знание кажется таким очевидным, нужно задаваться вопросом «откуда я это узнал?» и «насколько достоверные эти данные?»
Нет, что ни говори, а Френсис Бэкон был великим человеком.
БЭКОН, ФРЭНСИС (Bacon, Francis) (1561–1626), барон Веруламский, виконт Сент-Олбанский, английский государственный деятель, эссеист и философ. Родился в Лондоне 22 января 1561, был младшим сыном в семье сэра Николаса Бэкона, лорда-хранителя Большой государственной печати. Учился в Тринити-колледже Кембриджского университета в течение двух лет, затем три года провел во Франции в свите английского посла.
После смерти отца в 1579 остался практически без средств к существованию и поступил для изучения права в школу барристеров «Грейз инн». В 1582 стал барристером, а в 1584 членом парламента и вплоть до 1614 играл видную роль в дебатах на сессиях палаты общин. Время от времени он составлял послания королеве Елизавете, в которых стремился беспристрастно подойти к насущным политическим вопросам; возможно, последуй королева его советам, некоторых конфликтов между короной и парламентом можно было бы избежать. Однако его способности государственного деятеля не помогали его карьере, отчасти по той причине, что лорд Берли видел в Бэконе соперника своему сыну, отчасти же из-за того, что потерял расположение Елизаветы, мужественно возражая, по принципиальным соображениям, против принятия билля о субсидиях на покрытие расходов, понесенных в войне с Испанией (1593).
Приблизительно в 1591 он стал советником фаворита королевы графа Эссекса, предложившего ему щедрое вознаграждение. Впрочем, Бэкон дал понять патрону, что предан прежде всего своей стране, и когда в 1601 Эссекс попытался организовать переворот, Бэкон, будучи королевским адвокатом, принял участие в его осуждении как государственного изменника. При Елизавете Бэкон так и не поднялся до сколько-нибудь высоких постов, однако после того, как в 1603 на трон взошел Яков I Стюарт, быстро продвинулся по службе. В 1607 он занял должность генерального стряпчего, в 1613 – генерального атторнея, в 1617 – лорда-хранителя Большой государственной печати, а в 1618 получил пост лорда-канцлера, самый высокий в структуре судебной власти. В 1603 Бэкону было пожаловано звание рыцаря, он был возведен в титул барона Веруламского в 1618 и виконта Сент-Олбанского в 1621. В том же году он был обвинен в получении взяток. Бэкон признал получение подарков от людей, дела которых разбирались в суде, однако отрицал, что это как-либо повлияло на его решение. Бэкона лишили всех постов и запретили появляться при дворе. Оставшиеся до смерти годы он провел в уединении.
Главным литературным творением Бэкона считаются Опыты (Essayes), над которыми он непрерывно работал в течение 28 лет; десять эссе были опубликованы в 1597, а к 1625 в книге было собрано уже 58 эссе, часть которых вышла в третьем издании в переработанном виде (Опыты, или Наставления нравственные и политические, The Essayes or Counsels, Civill and Morall). Стиль Опытов лаконичен и назидателен, изобилует учеными примерами и блестящими метафорами. Бэкон называл свои опыты «отрывочными размышлениями» о честолюбии, приближенных и друзьях, о любви, богатстве, о занятиях наукой, о почестях и славе, о превратностях вещей и других аспектах человеческой жизни. В них можно найти холодный расчет, к которому не примешаны эмоции или непрактичный идеализм, советы тем, кто делает карьеру. Встречаются, например, такие афоризмы: «Все, кто поднимается высоко, проходят по зигзагам винтовой лестницы» и «Жена и дети – заложники судьбы, ибо семья является помехой на пути свершения великих дел, как добрых, так и злых». Трактат Бэкона О мудрости древних (De Sapientia Veterum, 1609) является аллегорическим толкованием скрытых истин, содержащихся в древних мифах. Его История царствования Генриха VII (Historie of the Raigne of King Henry the Seventh, 1622) отличается живыми характеристиками и ясным политическим анализом.
Несмотря на занятия Бэкона политикой и юриспруденцией, главным делом его жизни были философия и наука, и он величественно провозгласил: «Все знание – область моего попечения». Аристотелевскую дедукцию, в то время занимавшую главенствующие позиции, он отвергал как неудовлетворительный способ философствования. На его взгляд, должен быть предложен новый инструмент мышления, «новый органон», с помощью которого можно было бы произвести восстановление человеческого знания на более надежной основе. Общий набросок «великого плана восстановления наук» был сделан Бэконом в 1620 в предисловии к труду Новый Органон, или Истинные указания для истолкования природы (Novum Organum). В этой работе предусматривалось шесть частей: общий обзор современного состояния наук, описание нового метода получения истинного знания, свод эмпирических данных, обсуждение вопросов, подлежащих дальнейшему исследованию, предварительные решения и, наконец, сама философия. Бэкону удалось сделать лишь наброски первых двух частей. Первая была названа О пользе и успехе знания (Of the Proficience and Advancement of Learning, Divine and Humane, 1605), латинский вариант которой, О достоинстве и приумножении наук (De Dignitate et Augmentis Scientiarum, 1623), вышел с исправлениями и множеством добавлений. По Бэкону, существует четыре вида «идолов», которые осаждают умы людей. Первый вид – идолы рода (ошибки, которые человек делает в силу самой своей природы). Второй вид – идолы пещеры (ошибки, обусловленные предрассудками). Третий вид – идолы площади (ошибки, порождаемые неточностями в использовании языка). Четвертый вид – идолы театра (ошибки, совершаемые вследствие принятия различных философских систем). Описывая ходячие предрассудки, мешающие развитию науки, Бэкон предлагал трехчастное разделение знания, произведенное согласно психическим функциям, и относил историю к памяти, поэзию к воображению и философию (в которую он включал науки) к разуму. Он также давал обзор границ и природы человеческого познания в каждой из этих категорий и указывал на важные области исследования, до сих пор бывшие в небрежении. Во второй части книги Бэкон описывал принципы индуктивного метода, с помощью которого предлагал свергнуть всех идолов разума.
В незаконченной повести Новая Атлантида (The New Atlantis, написана в 1614, опубл. в 1627) Бэкон описывает утопическое сообщество ученых, занимающихся собиранием и анализом данных всякого рода согласно схеме третьей части великого плана восстановления. Новая Атлантида – превосходный социальный и культурный строй, существующий на острове Бенсалем, затерянном где-то в Тихом океане. Религия атлантов – христианство, чудесным образом открытое жителям острова; ячейкой общества является весьма почитаемая семья; тип правления по сути дела монархия. Главным учреждением государства является Соломонов дом, Коллегия Шести Дней Творения, исследовательский центр, из которого исходят научные открытия и изобретения, обеспечивающие счастье и процветание граждан. Иногда считают, что именно Соломонов дом послужил прообразом Лондонского королевского общества, учрежденного во время царствования Карла II в 1662.
Борьба Бэкона против авторитетов и метода «логических дистинкций», выдвижение нового метода познания и убеждение в том, что исследование должно начинать с наблюдений, а не с теорий, ставят его в один ряд с важнейшими представителями научной мысли Нового времени. Впрочем, он не получил сколько-нибудь значительных результатов – ни в эмпирическом исследовании, ни в области теории, а его метод индуктивного познания через исключения, который, как он полагал, будет продуцировать новое знание «подобно машине», не получил признания в экспериментальной науке.
В марте 1626, решив проверить, в какой степени холод замедляет процесс гниения, он экспериментировал с курицей, набив ее снегом, однако при этом простудился. Умер Бэкон в Хайгейте близ Лондона 9 апреля 1626.

